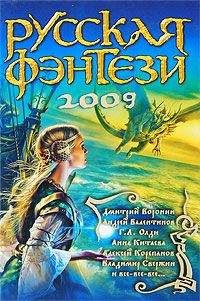Но Тенна вбил себе в голову, что надо написать новые книги. Значит, доберется.
— Мама, мама, а дальше?
— Дальше — мыть руки и спать, — говорю я строго.
Чихать она хотела на мою строгость.
— Я к мантикоре!
Только и успеваю, что поправить у нее на шее медальон со Знаком Тенны.
— Каша! — с отвращением сказала она, сморщив нос. Нос был курносый, с черной родинкой над кончиком. Все казалось, что это она промахнулась карандашом для глаз, и тянулась рука — стереть. — Ка-аша!
— Чирей, — отозвался он равнодушно, шаря по полке в поисках чайного пакетика.
— Я это не буду!
Под курносым носом дымилась банка растворимой картошки. Сидела девица не по-людски: прижав локти к бокам и наклонив голову к самой банке, точно собиралась лакать по-кошачьи. Дешевый карандаш, щедро размазанный по векам, расплывался и сыпался. Вытаращенные глаза девицы дико поблескивали из черных облаков.
— Ну чаю попей. С печеньем.
— Я есть хочу! У тебя почему нечего совсем?! Каша!
— Говорить учил меня мастер старый Йода, Хлора и Фтора.
— Дурацкий Кашка! — Она зафыркала, подняла длиннопалую худую руку и оттолкнула банку. Желтое пюре, похожее на растворимую пластмассу, потекло по столу. Пальцы девицы легли на стол, побарабанили. Локоть ее оставался прижатым к боку.
Киляев вздохнул.
Терпеливо вытер стол от картошки, выбросил изгаженную тряпку в мусорное ведро. Налил чаю, развязал узел на пакете с печеньем. Сел на табурет напротив девицы.
— Тирь, — безнадежно сказал он. — Ну чего ты, в самом деле?
— Я чего? Ты чего!
— Зачем ты сбежала?
— Хочу и сбежала. И не сбежала. Я гуляла.
— Гулёна.
— Мямля.
Она и печенье брала не по-людски: вытягивала над пакетом растопыренные пальцы и сгребала сухие пластинки в горсть, нещадно ломая их и кроша в хлебный песок. Потом запихивала в рот то, что оставалось в кулаке. А еще она чавкала ужасно и чай изо рта проливала. Киляев честно пытался ее хоть как-то воспитывать, но Тиррей в ответ на каждое осторожное замечание принималась крутить носом и заявляла, что «будет тогда спать». Это в лучшем случае. В худшем она начинала злиться, а злилась Тирь как дикий зверь — страшно. С зубами, ногтями и воплями такими, что однажды соседи вызвали милицию, решив, что безобидный с виду Киляев на самом деле маньяк и у себя на квартире кого-то насилует.
— Ка-а-а-аша! — гнусаво протянула Тирь, глядя в чашку. Она, когда пила, не поднимала чашку со стола, а наклонялась к ней, и глаза ее сошлись к самому носу.
— А ты Чирей, — жалко сказал Аркадий. — На заднице.
Ужасно это было, просто невыносимо. Она делала что хотела, она уходила из дома на недели, она отказывалась работать, Киляева вызывали забирать ее из обезьянника, грязную, исцарапанную, и даже задерганные службой менты его жалели. То ли бить ее надо, чтоб понимала? Но она же дикая совсем, безмозглая тварюшка, что с нее взять… жалко. И к тому же она, вообще говоря, еще сама Аркашу отлупит, потому как злей и отчаянней.
Хоть плачь.
— Из-за тебя концерт пришлось отменить, — сказал Киляев. — Поэтому денег мало.
Он хотел сказать это громко и строго, чтобы Тиррей пригнулась, засверкала настороженными глазами из-под сбившихся в колтуны волос, начала гладить себя по плечам красивыми пальцами: она всегда так делала, когда понимала за собой вину.
Строго — не получилось.
Но Тирь все равно пригнулась.
— У, — сказала она. — А еще когда?
— Концерт?
— Угу.
— Не знаю, — очень спокойно ответил Каша. — В «Дилайте» сказали, что больше не зовут. Групп много. Таких, у которых ничего не срывается.
— И чего?
— Не знаю. Может, будем еще куда-нибудь пробоваться. Только поначалу денег вряд ли дадут. А может, и просто не возьмут. Мы же две недели не занимались. И вообще с июля черт-те как работали. Правда, Тирь?
Теперь она пригнулась так, что прядь грязных волос с челки влезла в чай. И ничего не сказала, даже не гукнула.
— Может, мне все-таки другую работу искать? — серьезно и доверительно спросил у нее Киляев.
Тиррей вздохнула — робко и растерянно, по-детски. Помолчала. Обмахнула о голые колени руки, залепленные сухой крошкой от крекеров.
— Аркашика, — протянула шепотом. — Ты ничего, я это. Я — ну. Теперь вот. И ты тоже. Я так. Аркашика.
— Ага, — устало ответил он. — Я понял… Ну что, может, позанимаемся?
— Ну, — сказала она и с готовностью встала. Изодранный подол джинсового сарафана колоколом качнулся над худыми ногами.
Кожа у Тиррей была нечеловечески гладкая и ровно-смуглая, оттенка сильного загара, только загар никогда не ложится так ровно и так долго не держится. Глядя ей в спину, Каша вспомнил, что под сарафаном она ничего не носит. Сглотнул. У него еще ни разу не было нормальной девушки, только Тирь — иногда, когда ей приходил каприз. Каприза у нее не случалось с июля, а нынче заканчивался октябрь. Киляев старательно подумал о том, что Тиррей не мылась, шлялась столько времени незнамо где, и после всего этого пора бы о работе подумать, а не о перепихоне… не помогло. От Тиррей никогда не пахло — то есть не пахло так, как от людей. Она пахла лаком и деревом. И болела только своими болезнями. И гладкая кожа, и сарафан на голое тело…
— К мастеру бы тебя отвести, — громко сказал Аркаша.
— Х-хы! — с презрением ответила Тиррей, передернув красивыми плечами. Она прекрасно понимала, что у Каши нет денег на мастера, а даже и будь деньги — она бы не далась. Чай, не деревяшка.
— Акустика? — донеслось уже из коридорной темноты.
— Ага! — торопливо крикнул Киляев.
Дурочка и хиппоза Тиррей (в дурном настроении — Чирей, в хорошем — Тирям-Тирям) жила в его квартире уже год. С перерывами на загулы. Аркаша честно не знал, стоит ли она мук, которые он перенес. Со всех сторон говорили, что и не таких стоит, что любой музыкант позавидует ему черной завистью и что ему в руки упал подарок с неба, и это то же самое, как если бы Каша сам по себе родился гением.
Вроде бы так.
Но Тиррей? Подарок?!
С виду она напоминала неформалку конца восьмидесятых. Авария-дочь-мента и Цой-жив, и перестройка-дефицит, и прически дурацкие, и наркоманские изможденные лица. В ту пору Каша только-только пошел в школу. Ушедшая эпоха не вызывала у него ни интереса, ни ностальгии. Тиррей вся была какая-то потрепанная, подержанная, позавчерашняя, под стать тому вытоптанному леску с ожогами кострищ, где он ее, брошенную какими-то мангальщиками, нашел. Подобрал, еще не понимая, какое проклятие берет в руки, — и не было дня, чтоб не жалел об этом.