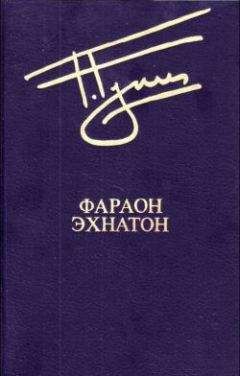– Слыхал я, что Божий Камень не так давно в щебенку рассыпался, – задумчиво ответил Левон, – да только не больно-то в это верил. Не верил, что он вообще существует, не полагалось в это верить, потому как – ересь. Но, с другой стороны, кому как не богунам в ересях-то разбираться: если ереси не знаешь, как бороться с ней будешь? А насчет того, сам он разрушился и кто его из осколков собрать взялся, так это ты лучше у всебогуна Агусия спроси.
– И где же этот ваш всебогун? – спросил Костя. – Только и слышим всю дорогу, Агусий да Агусий, а где он, этот всебогун, – никто не толком знает.
– Здесь я, – раздался голос откуда-то с верхотуры. – Вздремнул маленько с устатку, а потом, когда вы появились, решил не сказываться, уж больно занятно мне показалось за вами со стороны понаблюдать. Погодите, сейчас с лесов спущусь.
Глава 9
Жил-был Бог
Всебогун Агусий оказался небольшого росточка сухоньким человеком, бодрым и ехидным, пожилым, но совсем не старым, точнее, возраст его определению не поддавался. Больше всего он походил на видавшего виды бродячего художника из тех, что писали для костелов Иуд и Магдалин и не упускали случая пропустить чарку-другую в придорожной харчевне с седоусыми чумаками. Только вот до похорон в дорожной глине было, судя по всему, далеко. [19] И еще чем-то всебогун напоминал старика Вынько-Засунько, живостью характера, наверное. Была в его облике какая-то неуловимая подначка, вызов и никакого смирения. В общем, тот еще был фрукт этот всебогун.
– Прибыли, работнички, – приветствовал он нас. – Ну здравствуйте, коли пришли. Здорово, Левон, экий ты стал широкий! Как лирника-то кличут? Авдей? Хорошее имя, подходящее. Остальные, вижу, тоже в сборе, две обочницы, охранник да верующий. А ты кто будешь? – Агусий остановился напротив Кости. – Ты ведь не местный, правда?
– Я вообще-то герой, – скромно сказал Костя и смутился.
– Ну ладно, коли герой. Мир, значит, спасать явился? Ну-ну… – усмехнулся всебогун и продолжал: – А я уж думал, что вы до меня и не доберетесь, так и придется Божий Камень в одиночку восстанавливать. Ну восстановил бы я его, а дальше что?
– А что дальше? – спросил задетый Костя. – Нам-то откуда знать, что дальше? Может, чудо какое явится, а может, конец света настанет. Хотя конец света, похоже, и так настанет, так что, наверное, все-таки чудо.
– Ну, чудо не чудо, – прищурился всебогун, – а кое-что произойдет. Если ваш музыкант имя Истинного Бога сыграет, то самое, которое словами не обозначается, вот тогда железная напасть сойдет на нет, многобожество прекратится, и мир вернется на верную дорогу. Однако вечер, мне шабашить пора, да и вам с дороги отдых положен. Пойдем-ка в избу, там потолкуем, а завтра – за работу. Будем камни собирать да в кучу складывать. Пришло время.
Насколько я понял, играть неназываемое имя Истинного Бога предстояло мне, барду Авдею. Кроме того, мне еще и предстояло сыграть правильную дорогу для целого мира. Согласитесь, для провинциального барда это как-то многовато даже при наличии в помощницах Люты и Гизелы. А вот насчет собирания камней тут была некоторая неясность, при чем здесь камни?
Неподалеку от развалин Божьего Камня обнаружилась небольшая, серо-серебряная от времени, но еще крепкая на вид изба, в которую нас и привел хозяин. Справная изба, как сказали бы наши деды. При избе имелся огород, небольшой сад со старыми яблонями и спутанными зарослями терновника и всякие мелкие хозяйственные постройки. На задах, за низенькой темной банькой, тянулись размытые борозды картофельного поля. Определенно, всебогун и пенсионер Вынько-Засунько были весьма и весьма схожи. У Агусия даже сарайчик имелся, очень похожий на тот, в котором нам довелось провести первую ночь в этом мире. Того и гляди меня снова попросят сыграть «Цыганочку», благо теперь со мной целый ансамбль песни и пляски. То-то будет весело!
Но за порогом избы сходство кончалось. В сенях было чисто, терпко пахло березовыми и дубовыми вениками, развешанными у потолка. В горнице на крепко сколоченных сосновых полках стояли книги. Не тот бумажный мусор, который покрывал пол в доме Вынько-Засунько, а неприступные с виду фолианты, переплетенные в потертую кожу, истинные бастионы тайного знания.
Агусий усадил нас за покрытый чистой льняной скатертью стол, расставил глиняные миски, после чего отворил печную заслонку, ловко уцепил ухватом чугунок со щами и махнул его на столешницу.
– Повечеряем, – сказал он, – а уж после потолкуем о том да об этом.
Пока Левон резал душистый ноздреватый домашний хлеб, Костя наклонился ко мне и шепнул:
– Интересно, этот самый Агусий молиться перед трапезой собирается? У них ведь, у старцев, так положено. Вон я про староверов читал, те не просто молятся, а еще и после нечистых гостей посуду выбрасывают. А если дед будет молиться, то, интересно, кому? Он же всебогун, если всем местным богам, то щи прокиснут, изба развалится, да и мы с голоду помрем, покуда он их не ублажит.
Агусий, однако, всем богам молиться не стал, а просто постоял немного, видно было, что молится, только молча и непонятно кому, и кивнул нам. Мы поняли, что можно приступать к трапезе.
После ужина всебогун велел женщинам убрать со стола и помыть посуду, и, к моему удивлению, Люта с Гизелой без разговоров встали, собрали тарелки и пошли во двор. На старовера наш хозяин явно не тянул и посуду после гостей выбрасывать не собирался. После того, как в горнице было прибрано, Агусий сказал:
– Теперь слушайте. Сначала был Бог. Имени у него в нашем человеческом понимании не было, потому что он был один. Так что произносимое имя ему было как-то ни к чему. Некому было его произносить, людей-то еще не было и в помине, как и всего остального. Да и не осознавал он себя, Бог-то, так что прежде чем он стал Истинным Богом, надо было ему осознать себя. Сколько на это времени понадобилось, тоже никто не знает, потому что, пока Бог себя не осознавал как бога, времени тоже не существовало. С осознания все и началось. После того как Бог осознал себя, возникло время и начало свой отсчет, а вместе со временем появилось и пространство. Богу стало одиноко в бесформенном пространстве наедине со временем, которое, как известно, аморфно, если не происходит никаких событий, и он создал сначала Божий Камень, чтобы было на что опереться или присесть, а потом вокруг этого камня – остальной мир, как часть самого себя. Так сказать, собственное материальное воплощение. Так что изначала времен на Божьем Камне никаких надписей не было, и особенного в нем только и было, что он был первым в мироздании. И вот, сидя на сотворенном им камне, Бог принялся создавать остальной мир. Сколько времени прошло – нам неизвестно, потому что для Бога время текло от события к событию, камня к планетам и звездам, но пустые планеты и неразумные звезды не радовали, поэтому неопытный еще Бог поиграл в них немного, а потом принялся создавать обитаемые миры. Это оказалось гораздо интереснее, чем возиться с неживой материей, и Бог увлекся, понемногу все больше и больше нравясь самому себе. Образцов для творения не было, кроме самого себя, так что каждый обитаемый мир создавался хоть и отличным от прочих миров, но все равно – по образу и подобию. Не все созданные миры нравились Богу, но он всячески заботился о них, населял разными существами, ссорил и мирил их, совершенствовал, узнавая через этих существ самого себя. Делал он это с любовью и тщанием, ведь, в сущности, он заботился о себе самом и самого же себя если не совершенствовал, то познавал. Созданная вселенная была его единственным развлечением, он и тварями разными ее населил, но первые твари были неразумны и не обладали свободой выбора, а Богу хотелось хоть иногда с кем-то пообщаться и не просто поговорить, а поспорить. Ведь с самим собой разговаривать – это значит все время соглашаться, а такое в конце концов надоедает даже Богу. И тогда в одном из миров он сотворил людей, опять же как часть себя, но все же даровал им самостоятельность, чтобы они познавали свой мир, а стало быть – его, Бога, и рассказывали ему о том, что узнали, а иногда и спорили с ним. Каждому ведь интересно, когда тебе рассказывают о тебе же, а спорщики хоть и раздражают, но без них невозможно истинное понимание самого себя. Люди быстро научились разговаривать между собой, ссориться и мириться, но для разговора с Богом человеческий язык не очень-то годился. Тогда Бог вложил в людей способность молиться, это и был язык, на котором люди должны были беседовать с Богом. Но людям было мало просто молиться, им казалось, что при молитве должны произноситься слова, и поэтому они продолжали разговаривать с Богом на своем, человеческом языке. Кроме того, вместо того чтобы обсуждать с ним мировые проблемы, принялись просить о том и об этом. А для того, чтобы как-то обращаться к Богу, придумали ему имена. Это-то имена и стали появляться на Божьем Камне. Люди приходили и вырезали, выцарапывали их, словно туристы какие-нибудь. Возможно, это Бога забавляло, а может быть, и нет – кто знает… Каждый род человеческий, каждое племя теперь называли Бога по-своему, и на Божьем Камне появлялись все новые и новые имена. В конце концов, люди стали молиться не столько Истинному Богу, сколько своим названным богам, но поначалу Бога это только позабавило, потому что все, что существовало, изначально было частью его самого, и он от щедрости своей вложил толику собственной божественной сущности в названных людьми богов. Но самостоятельность, которую он даровал людям, привела к тому, что человеческие боги тоже обрели самостоятельность.