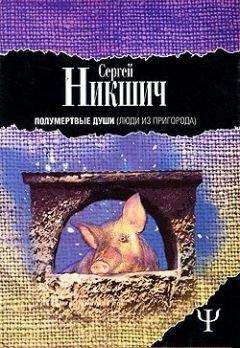Наталка хотела было снова засмеяться, но поняла, что сил на это у нее уже нет.
– Не будь дурой! – без обиняков посоветовала она подруге. – Средство от старости – это пляж на Багамах и прислуга, которая чешет тебе в случае необходимости пятки, а если этого нет, то никакая зола тебе не поможет. Это он придумал, чтобы тобой, моей куколкой, не любовались за бесплатно все, кому не лень, пока он протирает штаны в присутственном месте. Золу придумал! Вместо подобающих тебе одеяний! Негодяй! Да еще тебя и изуродовал, чтобы люди шарахались от тебя, как от взбесившейся лошади. Если бы мне мой такое устроил, я бы его укокошила его же собственным пистолетом. И суд меня бы оправдал!
Произнеся эту тираду, Наталка нервно закурила, словно сигарета могла спасти ее и свояченицу от мужской подлости, и бросила на Гапку долгий укоризненный взгляд, как бы порицая ее и за прошлые, и за будущие глупости, совершаемые во имя эфемерной и, как правило, недосягаемой любви.
А Гапка молчала. Крыть ей, разумеется, было нечем, желудок все еще отчаянно наигрывал симфонию голода, и кроме того, Гапка понимала, что Наталка против ее, Гапкиной воли, раскрыла ей глаза на то, что она упорно не хотела замечать, – Тоскливец при ближайшем рассмотрении оказался не интеллигентным человеком, а удушливым типом с потными руками и готовностью заморить красавицу-жену голодом, лишь бы сэкономить несколько гривен. В глубине души Гапка боялась самой себе признаться, что Голова голодом ее не морил, отпускал к свояченице без ограничений, и даже один раз дал много денег на салон красоты. «Да и для чего Тоскливцу деньги?» – думала Гапка. Она знала, что детей у Тоскливца отродясь не было, потому что от одной мысли, что их придется кормить и одевать, он немедленно бежал в аптеку за очередной коробочкой «заветных» и никогда не позволял себе заниматься любовью а-ля натюрель, опасаясь, что за это потом придется расплачиваться минимум восемнадцать лет. Кроме того, как-то в порыве нежности он сообщил Гапке, что он потому отлеживается в постели по выходным, что так меньше хочется кушать, чем если без толку болтаться по улицам или, скажем, зайти в музей, и, таким образом, во-первых, организм не подвергается дополнительным нагрузкам, а, во-вторых, ему удается экономить на еде, ведь что ни съешь, оно все равно превратится в известную субстанцию. И книг он не покупает себе тоже из экономии, потому что опасается, что его может увлечь чтение и тогда книги придется покупать регулярно. «А эта меня вполне устраивает, – признался в тот вечер Тоскливец, – в ней много умных и глубоких мыслей, и поэтому я засыпаю с ней в обнимку так же быстро, как в детстве с плюшевым мишкой».
Когда Гапка утолила тот страшный голод, до которого ее довел коварный Тоскливец (Гапка подозревала, что еду он теперь держит на работе, но проверить не могла, потому как стеснялась бывшего супруга), и к ней возвратился ее бурный нрав, она, даже не поблагодарив подругу, грозным смерчем вырвалась на заснеженную пустынную улицу и устремилась к дому Тоскливца, чтобы наконец все прояснить. Ей, однако, не было известно, что выяснить у Тоскливца что-либо совершенно невозможно – люди сведущие в повадках Тоскливца, такие как, например, ее бывший супруг, утверждали даже, что с большим успехом можно вопрошать египетского сфинкса. Но Гапка никогда не прислушивалась к разглагольствованиям Головы и как оказалась – напрасно, потому что тот неоднократно описывал при ней Тоскливца такими сочными красками, что, казалось, только холста не хватало, чтобы на нем появилась блудливо-тоскливая фигура писаря с заискивающей и одновременно презрительной улыбкой на впалых от чрезмерного донжуанства щеках. Нет, Гапка напрасно не прислушивалась к словам Головы и сейчас, как корабль, паруса которого раздувает попутный ветер, мчалась во весь опор к своему дружку, который уже пришел домой и с многозначительным лицом рассматривал пустой, но зато стерильно вымытый холодильник и заодно оттирал жирные губы, чтобы Гапка не догадалась, что он не плохо перекусил по дороге домой. Ему, однако, не было известно, что Гапке не до гастрономических тонкостей. И он все еще надеялся, что если с Гапки смыть золу и не рассматривать ее прическу, которую лучше чем-нибудь прикрыть, то она, теплая, как хорошо протопленная печь, и нежная, как теленок, который еще не уразумел, для чего появился на свет, вдохновит его, когда придет домой от свояченицы, которая по своей доброте душевной бездельницу накормила, и они немедленно отправятся в постельку и он тогда насладится природой, потому что неистовую Гапку он представлял себе как проявление дикой, еще не укрощенной никем природы, которую еще не испоганили и не превратили в окружающую среду. Но лицо Гапки, когда она распахнула дверь, напоминало скорее африканскую маску или физиономию индейца, с которого вот-вот снимут скальп, чем лицо женщины, истосковавшейся по любви. И совсем не «Оду к радости» собирались исполнить Гапкины губки, когда могучая ее грудь захватывала нужную толику воздуха – Тоскливец на мгновение даже почувствовал вожделение, увидев, как вздымается на ней блузка, но тут эта мгновенная прелюдия закончилась и Гапка (не будем забывать, читатель, что с Головой она прошла академию супружеской жизни), чуть подняв к потолку голову, как задирает голову воющий в ледяной пустыне волк, издала рык, который парализовал Тоскливца, как жалкое и отвратительное насекомое.
– Потный труп! – завопила Гапка. – Зловонная, похотливая падаль! Членоголовый кастрат! Протухшая задница! Клонированная мошонка! Изуверская выхухоль! Изуродовал меня! Меня, которая любила тебя так, как никто тебя, быть может, и не любил…
Но тут по обличности Тоскливца расползлась предательская улыбка, и Гапка поняла, что любила Тоскливца так не она одна, но это ее не опечалило, а ввело в еще больший раж, и она жадно глотнула воздух и стала придвигаться к потаскуну, чтобы его раз и навсегда уничтожить вместе с его осклизлостью, потливостью и жадностью.
А Тоскливец по своему обыкновению затоскливел еще больше, потому что вместо десерта на него выплескивали помои и, кроме того, он не понимал, для чего Гапка орет, – даже Клара не утруждала так свои голосовые связки, понимая, что кричать на него все равно, что выкрикивать оскорбления вечно шумящему морю, и, как правило, только шипела на него и кулаками наставляла его на путь истинный. Кроме того, Тоскливец весьма смутно представлял себе, что такое выхухоль, потому что все, чему его учили в школе, он уже давно забыл, а в его единственной книге об этом ничего не было сказано. Он бы очень удивился, если бы узнал, что и Гапке это тоже не известно, но она уже, как пифия, вошла в трансовое состояние и теперь ею руководили хтонические, страшные силы, доступные и понятные лишь шаманам.