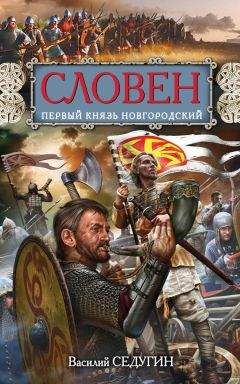В темноте вечнозеленой хвои вспыхнули два изумрудных огонька, и Ругивлад услышал приятный, медоточивый голос:
— Первым делом неплохо бы перекусить. Скверно ждать неизвестно чего на голодный желудок!
— Только б на дорогу выбраться! — подтвердил Ругивлад, припоминая намеки колдуна.
— Нет ничего проще! Эти места я знаю, как свои когти. До Киева уж лапой махнуть — ко вторым петухам доберемся. Есть там одна корчма. Вот и пошумим перед дальней дорогой.
— Валяй, мудрый попутчик, только без глупостей! — ответил Ругивлад, решив ничему не удивляться.
— А вот пугаться не надо. Доверяй тому, кто первым заговорит из тьмы! Собирался бы напасть — ты б уж валялся тут пузом к небу!
Словен вздрогнул.
— Пригнись!
Вверху зашуршало. Посыпались иголки. Что-то мохнатое тяжело прыгнуло ему на спину, едва не сбив с ног.
— Убери хвост! Чихну — мигом слетишь! — предупредил Ругивлад, когда говорящий зверь устроился на его плечах теплым пушистым воротником.
— Мррр… А ты горб-то разогни! — отозвалось животное.
— Как же! Жрать надо меньше! Навязался на мою шею! — разозлился словен.
— Кощей несчастный! — фыркнул кот. — Кожа да кости!
Ругивлад понял, что препираться — себе дороже выйдет. Он покосился на попутчика. Котяра сверкнул глазищами и зевнул. Не иначе, вел род по прямой от самых диких тигров.
— Терпи! Авось, в князи выйдешь! — добавил он.
— С моим-то носом — и в князья? — отшутился Ругивлад, распрямляя спину, а сам задумался: — Ромеи, нет, не нынешние, а прежние, считали, что нет и не может быть ничего совершенней человеческого тела. И даже боги вроде бы творили людей по своему образу и подобию. Право же, какое самоуверенное суждение! Этот мохнатый пролаза, небось, тоже мнит себя образцом красоты.
— Не скромничай! — мурлыкал зверь, — Нос как нос. Не клюв же? Так, поломан немножко… в двух-трех местах. Небось, из-за бабы?
— Еще чего! Много чести будет!
— Дурак! Может, только ради бабы и стоит! — возразил ему кот.
— Ах, мощи Кощеевы! Растяпа я! — спохватился Ругивлад.
— Ась? — не понял усатый попутчик.
— Флягу-то свою я у норы Седовласовой оставил!
— Вспомнил! Ха! Теперь тебе до нее не один день топать. Ну, да ничего, она все одно пустая была, — обнадежил кот. — А старый хрыч её, глядишь, найдет, да что вкусное нальет. Без дела не останется твоя фляжка.
— При деле, да уж не со мной, — буркнул словен.
Словен небрежно очертил «колдовской круг» и теперь проклинал себя за торопливость. Сквозь призрачную ткань волошбы просачивались не только аппетитные запахи, но и будничный шум.
Ругивлад скупыми глотками попивал медовуху, тщетно пытаясь усыпить память. Он расположился в углу корчмы за приземистым дубовым столиком, и звуки, на которые в другом расположении духа не обратил бы внимания, нагло вторгались в размышления: «Нет защиты от случайной брани. Волошба спасает только от предсказуемого, от предательской стрелы ил метательного ножа».
Но вряд ли кто всерьез посмел бы беспокоить героя, ибо длинный меч, небрежно прислоненный к стене рядом, надежней любой магии оберегал покой своего владельца. На столе дремал, основательно нализавшись мяун-травы, величавый лесной кот, и только слепой не заметил бы, как прогнулись доски под тяжестью животного. Изредка зверь зевал, обнаруживая крепкие белые клыки, и, слегка приподнявшись, переворачивался на другой бок под скрип возмущенных досок.
«Управляться с послушной стихией, будь то вода или воздух, земля или руда, снег или лед, в силах и обычный человек, — рассуждал про себя словен. — Он использует подручные средства, на худой конец — то, что дали ему боги от рождения, те же руки. Ими он покоряет и древо, и камень. Волхв умеет кое-что сверх того, ибо понимает — и меч, и борона, и самая пустая в мире кружка — это всего лишь части языка, на котором Род говорит со своими детьми. Медовуха, благодаря пустоте чаши, уравнивается с тем, кто пьет, и все это черты и резы пропойцы».
Ругивлад сделал еще глоток.
«Пахарь пользует знаком „соха“ землю и тем хранит себя и родню. И он сам, и его орудие, и ячмень, крестянином этим взращенный — то „письмена“ земледельца. Однако подлинно божественным языком становится иное — и это руны!» — так учил Ругивлада стрый Богумил, так наставлял он своего наследника.
Отца мальчик не помнил, но сказывали: пропал в дальних странах. Мать померла через год. Дядя заменил ему родителя, и семья Богумила стала его семьей. Сперва жили в Ладоге, но когда Богумила избрали верховным жрецом, перебрались в Новгород… Потом его, совсем еще ребенка, провожали в заморскую Артанию — далекую, таинственную… Там он учился, долго, мучительно и упорно, чтобы быть таким, как стрый — знающим, ведающим, мудрым. По меркам десятого века, тридцать лет — это больше, чем зрелость.
Словену теперь было тридцать три. Но когда, еще мальчишкой, получил он черную весть, горечь утраты, а за ней и страстное желание отмстить убийцам овладели им всецело. За долгие годы пути к истине молодой волхв научился сдерживать первый порыв, но сейчас хлынувшие рекой воспоминания только бередили не просто душу, но затмевали сам рассудок.
Мастера Лютогаста, что не раз помогал ему добрым советом, в ту пору в Арконе не оказалось. Оно и к лучшему: вдруг, да и отговорил бы! Родичей этим всё равно не воротишь, а ненависть — не то чувство, что вправе вести молодого волхва и зрелого человека по жизни. Сердцу не следует брать верх над рассудком. И не для того ли Ругивлад покинул родину, не для того ли он служил Храму, чтобы покорять волею самые темные, самые низменные мысли и чувства?
Отхлебывая глоток за глотком, словен возвращался и к вчерашним событиям, когда, взывая к небесным и подземным судьям, проклиная неторопливый западный ветер, он в три недели добрался до Новагорода. Он тогда не скупился, подгоняя корабельщиков, но угрозы и деньги его истощились, едва лодья достигла пристани.
Седые воды Волхова бороздил не один десяток вертлявых судёнышек. Свейские шнеки, словенские лодьи, добротные киянские струги и кочи из самых северных широт выстроились вдоль пологого брега по левую сторону, где кишел приезжий народ. Тут можно было встретить и чубатого руса с Днепра, и бородатого викинга. Здесь здесь бранились с прижимистыми словенами разодетые в пух и прах их смуглые. Красивые длиннополые кафтаны, белоснежные холщовые рубахи, строгие черные веретья — все смешалось в царившей на берегу кутерьме. А с Торговой стороны уж доносился знакомый гул вече.