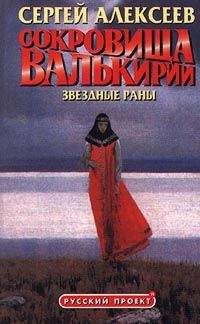— Ты уже попал. Я тебя живым не отпущу, если будешь молчать, а так, может, отвертишься.
Он подумал, взял рацию.
— Вы же генерал, и понимаете… Я исполняю свой долг…
— Мы с тобой потом подискутируем насчет долга, чести и преданности, — заверил Мавр и сильнее вдавил пистолет в широкий лоб. — Вызывай командира.
— «Девора», я седьмой, — примерившись, глухо проговорил в микрофон. — Объект под моим контролем.
— Где находишься? — просипел искаженный, непонятно какому полу принадлежащий голос.
— Я на месте, — глянув на спусковой крючок, ответил пленный.
— Действуй по инструкции! — был приказ. Мавр отнял радиостанцию и выбросил под откос.
— А это как — по инструкции?
— Надеть наручники…
— И все?.. Тогда зачем шприц носишь в кармане? Что это за маркировка на нем? Думал, обезболивающее… Теперь-то уж говори, коль свою «Девору» сдал с потрохами.
— Укол паралитического действия, на двадцать минут…
— Я подумал, в глаза прыснуть… Ну так, отрубишься? Или посидишь спокойно? — Мавр убрал пистолет, не спеша открутил колпачок и прицелился иглой в бедро пленника. Тот заелозил к дверце, замотал головой:
— Спокойно! Я буду спокойно!
Шприц тоже полетел под откос. Мавр сел за руль и тихо покатился вниз по «лепестку».
— Туда нельзя! — торопливо заговорил пассажир. — Там перекрыто, не пропустят…
Но было поздно. На выезде к шоссе дорогу перегородил армейский грузовик, за ним мелькали камуфлированные фигуры людей.
В Берлине шел дождь, причем осенний, колючий и с ветром. Барбара угадала, что он прилетит в одном костюме, и, видимо, по дороге купила плащ — этикетка болталась на лацкане. И встречать прорвалась на летное поле: ее черный шестисотый «мерседес» стоял чуть ли не у трапа. Она приняла его с нижней ступени в плащ, как младенца в пеленку, повисла на шее и неожиданно заплакала.
— Имею желание тебя скушать, — выучила она неуклюжую для русского языка фразу. — Скушать и скушать.
Видимо, это должно было звучать, как съесть от скуки: она не ведала коварства чужого языка, но Хортов стерпел, ибо за ее слезы можно было это простить. Ее запах, влажные волосы и мягкие губы напомнили далекие времена близости, и что-то приятное зашевелилось в потеплевшей груди. Смущенный, но не потерявший самообладания, он вспомнил свои развесистые рога и сказал с упрямой тупостью:
— Я принял решение приехать.
Не отпуская ни на мгновение, Барбара усадила его на заднее сиденье, а сама не смогла побороть старые комсомольские и новые хозяйские привычки — полезла на сиденье рядом с водителем. Еще давно Андрей объяснял ей, что ездить на этом месте неприлично, тем более, для богатой женщины. Ее место всегда сзади: нельзя же садиться рядом с кучером!
Похоже, исправлению она не поддавалась…
По дороге она похвасталась, что купила новый дом (приготовила сюрприз, заманивала) в западной, цивилизованной части и теперь они едут туда.
Это оказался в самом деле прекрасный особняк, окруженный старыми деревьями и цветниками, но вовсе не новый, еще довоенный: такие дома в гитлеровской Германии строили для генералов. Несколько точно таких же стояли в одном довольно тесном ряду и заслонялись друг от друга лишь перелесками из лип и дубов.
Хозяйку с мужем встречал привратник — чистенький, аккуратный, но бледнолицый старик в зеленой униформе, довольно шустро шевелящий ногами. Он распахнул ворота и поклонился дважды, то есть не только Барбаре — и Хортову. Водитель развернул черный бронированный танк к парадному и выскочил, чтобы открыть обе дверцы: кажется, жена воспитала прислугу в уважении к мужу.
Андрей вальяжно вылез из машины. Привратник уже стоял поблизости — ждал чего-то и ловил взгляды хозяев.
— Это мой дворецкий, — представила Барбара. — А также охранник усадьбы, автомеханик и садовник. Можно обращаться по всем бытовым проблемам. И не только…
— Снимите эту форму, — сказал ему Хортов. — Она делает ваше лицо бледным и зеленоватым.
— Хорошо, господин Хортов, — мгновенно согласился он. — Меня зовут Готфрид-Иоганн Шнайдер, я родом из Зальцгиттера.
Барбара взяла Андрея под руку, не дав старику договорить.
— Теперь прошу к столу! Я старалась приготовить все с русским размахом и широтой души.
Стол был накрыт в столовой, отделанной старым красным деревом и лишь слегка подреставрированной. Размах чувствовался в количестве спиртного и еще, как выяснилось, в фарфоровой супнице, полной борща. В остальном все шибало немецким порядком и скромностью — приборы стояли на две персоны. Автор всего этого, старая немка фрау Шнайдер, задержалась лишь на минуту, чтобы познакомиться с мужем госпожи, и тут же исчезла.
— Буду обслуживать сама, мой господин, — с восточной покорностью сказала Барбара и, прежде чем посадить за стол, отвела в ванную и проследила, чтоб вымыл руки.
Хортов вспомнил старое и сразу же заскучал. Пока у них развивался военно-полевой роман, все казалось прекрасно и впереди виделся свет. Увидев ее впервые на встрече с немецкой молодежью, он будто окунулся в свою раннюю юность, во время, прожитое на реке Ура. Барбара невероятно походила на ту девочку, что была в сказке о мертвой царевне и семи богатырях. Он боялся спросить ее об этом, не желая разрушать впечатления, и все время откладывал на будущее — потом когда-нибудь он обязательно спросит, а сейчас пусть будет так, как есть.
Обновление всего окружающего было потрясающим: любимая женщина, смешно картавящая русские слова — и удивительно знакомая, будто выросли вместе, и одновременно непознанная, воистину, — заморское чудо. А еще порядочная, аккуратная, обязательная и чопорная страна с неведомым образом жизни.
И это случилось, когда в своем государстве начинался вселенский хаос, крайняя нищета, беспросветная дикость, воровство и растащиловка, сравнимая разве что с набегом кочевников. Все это на фоне страшного, нетерпимого унижения личности, когда человеку с утра до вечера говорят — ты сын подлой страны, империи зла, ты необразованное, неразвитое чудовище, ты пес, питающийся с помойки, но лижущий руку хозяина.
Но даже при таком раскладе Андрей не собирался оставаться в Германии, хотя имел полную возможность, и задержался лишь на полгода, чтобы закончить последний курс и получить диплом.
Впрочем, нет, мысль такая была, но немного раньше, и, скорее, выглядела как зависть — умеют же люди жить!
Шести месяцев хватило, чтоб он по горло наелся западной цивилизации. Все было чужое, приторно-сладкое и отвратительное, отовсюду сквозила не менее потрясающая нелюбовь человека к человеку, каждый жил в собственной оболочке и наплевать, что творится рядом. Пусть хоть убивают — не твое дело, не твои проблемы.