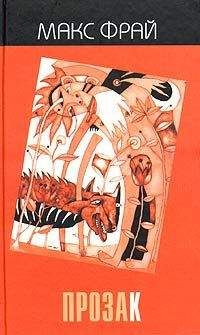— Ну же, сюда, ко мне, — взмолился товарищ, халат которого давно прилип к разгоряченной спине.
Штрумпфа разобрал кашель.
— Это… это… запретный плод! — простонал он. — Никак не дается; ни взять, ни рассмотреть! В нем страшная тайна, секрет жизни и смерти! Мне нужно обратно, пусти! …
— Нет уж, — отдуваясь, возразил Мухтель. — С меня достаточно. Мы спокойно осмыслим… этот опыт… попросим гипноз…
Но Штрумпф впал в буйство. Он стал метаться, сбивая на пол предметы, лежавшие на тумбочке; зацепил стойку с раствором, ударил Мухтеля по лицу. Тот отпрянул, и Штрумпф воспользовался моментом: проворно перевернулся на живот, уперся кулаками в матрац и попытался отжаться. Мухтель обхватил его, беря в зажим, но было поздно, тот вновь хрипел, улетая за таинственным плодом. Мухтелю стоило колоссальных трудов вернуть его на спину. Лицо следопыта почернело, зрачки закатились, словно спрашивали у темечка, долго ли им томиться в неизвестности.
— Ах ты, чтоб тебя, — просипел Мухтель, вытирая лицо рукавом, но — свое, а не штрумпфово.
— Чтоб меня… верно, — из уст Штрумпфа вдруг вывалились связные слова. — Чтоб… меня… уцепил… взял… Оно у меня… получилось… Это… знаешь что? Посмотри… в горсти… надо же… загробная тайна…
Отзываясь на слабое движение, Мухтель покосился на правую руку следопыта. В ней что-то было. Прервав массаж, он поднял кисть и скривился:
— Что ты такое говоришь! Это же яблоко! Ты все тут перевернул, это гостинец из твоей передачи. Неужели забыл? Яблочков! яблочков тебе принесли райских, вон раскатились… Ты, должно быть, яблочко прихватил и не заметил…
Но Штрумпф уже успел замолчать навсегда.
— Ничего в нем нет запретного, — пробовал пошутить Мухтель. — В передачах разрешается…
Пальцы разжались. Маленькое, зеленое, и наверняка кислое яблоко выпало и побежало прятаться под соседнюю кровать. Там оно остановилось, неподалеку от других яблок.
©Алексей Смирнов, 2004
Алексей Смирнов. Вечернее замужество Греты Гансель[26]
Грета Гансель — так стояло в ее поддельном паспорте, стоившем бешеных денег.
Грета следила, как Слава, розовея по цвету вина от радости за себя и за то, что все выходит так славно и гладко, наполняет ее фужер. Вино-квадрат, шашнацать сахеру на шашнацать спирту, попирало геометрию: оно, заключенное в округлую емкость, естественно и легко претворялось в багровую ленту и расплывалось от удовольствия в конечном, пузатом сосуде, где обмирало.
— Достаточно, — лукаво улыбнулась Грета.
— Доверху, до краев, — заспешил Слава. В его нарочито непререкаемом тоне обозначился суетливый страх.
Грета вздохнула:
— Ты не понял. Вообще достаточно, я больше не буду пить.
Слава подался назад и театрально застыл: одна рука с початой бутылкой, другая — с пустой ладонью, распахнутой укоризненно.
— Как! — огорченно выкрикнул Слава, переборщил и пустил петуха. — Грета Батьковна, так не годится! Не порти обедню, окажи милость!
Делая, как делает напористый танк, когда он ломает несерьезные гражданские баррикады и вминает в землю жалкие надолбы, Слава рухнул на колени, пополз под стол, намереваясь облобызать, обсосать, а то и укусить замшевую туфельку, которая, животным мышиным чувством угадав неизбежное, быстро отпрянула и подобралась.
— Нет, — сочувственно повторила Грета. — Я буду пьяная.
— И отлично! — донеслось из-под стола. Грета подняла скатерть, заглянула на голос. Туфелька ожила и толкнула Славу в лоб.
— Мне нельзя, — на сей раз Грета заговорила с нажимом. Тон ее сделался деревянным, напряженно-безразличным. — У меня была травма мозгов, очень тяжелая. Со мной случаются припадки.
Славина голова, простучав о столешницу, вынырнула наружу. Лицо Славы оставалось лицом ангела, но ангела, уже начавшего движение вниз, в самобытную бездну.
— Что же ты не сказала, — Слава, пряча глаза, прикурил от свечного пламени, купавшегося в жиру. — Я бы и начинать не начал.
Грета отвела прядь богатых волос, нацепила очки, снятые получасом раньше. Она не ответила и строго взирала на кавалера, который внимательно рассматривал скатерть. В одной руке, не так давно блиставшей урезонивающим жестом, выветривалась сигарета; вторая, приютившая бутылку, с напускным интересом повертывала пустой фужер.
— И какие же у тебя припадки? — спросил Слава вяло, что-то прикидывая в уме.
— Ссусь, — улыбнулась Грета.
— Угу, — Слава вежливо вскинул брови.
Жемчужная и сладкая улыбка Греты стала отталкивающей.
— Не сразу, в конце. Сначала я истошно кричу, мне в стенку стучат, а однажды колотили в дверь, но я этого не помню, мне мама рассказывает. Потом падаю и бьюсь обо все, мне сразу же ложку суют в зубы, чтобы не откусила язык. Один раз его булавкой пришпилили к воротнику…
— Что — булавкой? — автоматически переспросил Слава.
— Язык. Он западает, можно задохнуться.
Прощание получилось стремительным, оно заняло секунды. Только что Грета делилась со Славой бесславными подробностями падучей; считанные мгновения истекли с того момента, как она всунула лодочку ступни во вторую туфлю, ранее приснятую и качавшуюся на носке — так многие женщины, когда им особенно хорошо и свободно, высвобождают пятку из чопорного вместилища, покачивая туфлей и готовые, пятке своей подобно, выходить из границ; Грета почти разулась, и вот, туфля на месте, и следующий кадр: вроде бы она, Грета, суетится в прихожей, но, может быть, этого не было, или состоялось без осознания и не запомнилось, приложившись к едва родившимся мифам — вот что случилось с этим событием, так. Кадр оказался двадцать пятым. Полнометражное кино продолжилось на улице. Там шел вполне кинематографический дождь, заунывное экзистенциальное водоизлияние из коллекции парижских младореалистов, молодых львов — давно уже выцветших и пуще прежнего черно-белых.
Грета зацокала каблуками, спеша к себе и стараясь не думать о пылающих славиных щеках, в которых под конец испеклось нечто несвежее, вызывавшее брезгливость и, казалось, давно там бывшее, спрятанное до времени. Вечное, тоскливое узнавание старого. Грета густо, по-рабочему, закашлялась, отхаркнула слюну. Мокрая насквозь, она успела разжалобить и осадить полупустой автобус. Грета села против двух молодцов, бритых налысо, сосавших пиво. Она огладила себя, чуть развела ноги, спрятала очки в сумочку. Жеребцы переглянулись, пакостно гыкнули; Грета со вздохом отвернулась и стала смотреть в запотевшее окно. Ей показалось, будто ее щеки тоже горят, заразившись от славиных, но лед ладони, пробуя жар, натолкнулся на встречный лед.