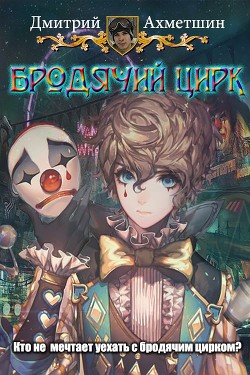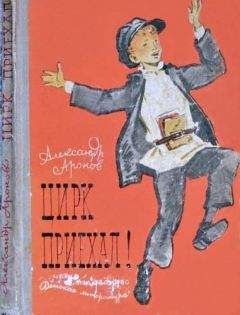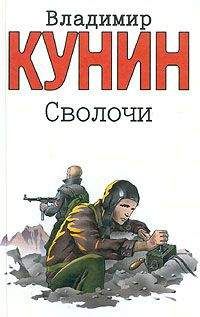— Что ж, так даже лучше, — сказал я Луше, которая повернула голову, пощекотав мою щёку усами. Оглянулся и увидел Марину, которая сидела посреди крыши, притянув к подбородку колени.
— Никого нет, — резюмировала она.
Откровенно говоря, я не мог поверить своему счастью. Все эти четыре минуты я слушал и слышал работу всех внутренних органов, начиная с шума несущейся по артериям крови и кончая процессами в кишечнике.
«Выход на сцену перед пустым залом — тоже выход, — вспомнил я слова Акселя. — Ты ни в коем случае не должен позволять себе расслабляться».
Что-то дало течь, но слова нашего командира от этого не расплылись. Они намертво всохли в пергамент моей памяти.
И мы выступили. Всё прошло как по маслу. Видно, предельное волнение пробило в сознании какую-то дыру, в которую я сейчас с удовольствием ухнул. Я никогда ещё так не погружался в выступление. Мы с Лушей могли общаться как-то по другому, нежели открывая рот и издавая разные звуки, как-то по-другому, нежели указывая хвостами-стрелками направление на эмоции и шевеля в такт внутренней музыке усами. Мы словно были двумя руками одного тела. Я уверен, если бы здесь были люди, они хохотали бы до слёз, хотя в тот момент ни о каких зрителях я не думал.
Хотя один зритель всё-таки был. В глазах Марины читалось изумление. Я помахал ей рукой.
— Давай ко мне.
Она помотала головой.
— Здесь же никого нет! — настаивал я.
— Не будь дураком. Я давно это знала. Слишком тихо.
Она подползла на четвереньках, собирая штанами мелкие стекляшки. Вытянув шею, заглянула вниз, так, как заглядывают в глубокий колодец, и только потом поднялась на ноги.
— Покажешь пару трюков? Я тебя удержу.
Я опустился на корточки, чтобы ей удобнее было забраться мне на плечи. Марина что-то сказала, но я не расслышал.
— Что?
— Как ты это сделал? Когда вы с Лушей выступали, вы как будто бы были в телевизоре.
— В телевизоре? Что это значит?
— Значит, ты написал контрольную на пятёрку. Ни одной помарки. Я словно смотрела кино. Всё-таки хорошо, что Аксель не послушался меня и взял тебя с нами.
Она сказала это тоном маленького капризного ребёнка, который уверял маму, что съест на обед весь суп, если взамен получит новую игрушку, а теперь признал чужую правоту — да, доесть суп до конца, даже при наличии новой машинки под столом, ему не по силам. Я почувствовал, как на моём лице сама собой выползает кривая улыбка.
— Жалко, что никого нет, — сказала Марина. Внизу, осторожно ступая, вынюхивали что-то среди груд мусора две собаки. — Не могу поверить, что ты выступал перед пустым залом так, будто на одного тебя сбежались посмотреть дети со всего города.
— Перед другими детьми я бы путался и делал бы всё не так, — отшутился я. — Кроме того, ты же сама сказала, что меня транслировали по телевизору.
Она засмеялась и, крикнув: «Ну, готовься!», взлетела мне на плечи.
Зрители у нас были. Шляпы для подаяний не было, да и вряд ли кто-то вышел бы, чтобы бросить туда монетку. Но я видел, как шевелились занавески на окнах в доме справа и доме напротив, и знал, что это не просто включенные вентиляторы. За бликующими стёклами я видел людей. После того, как Мара сделала пару головокружительных сальто, я показал ей в сторону окна, где только сейчас видел детское личико, и мы поклонились.
Джагит всё так же стоял без движения, обратив взгляд в пространство. Он был холоден и влажен от пробежавшего дождя.
— Как думаешь, долго он таким останется? — спросила Марина.
У меня не было ответа. Теперь маг мало чем отличался от фрагментов разрушенной стены, всплывающих внезапно, словно плавники акул в море, то там, то тут в коралловых рифах города. Черты заострились, глаза стали просто небольшими выпуклостями на лице камня.
Я спросил, слышит ли он меня, но кусок камня всего лишь отразил мой собственный голос. На макушку ему приземлился голубь, видимо, рассчитывая получить от нас хлебные крошки, и я согнал его взмахом руки.
В то время мы ещё не знали, что он долго будет здесь стоять, памятник непоколебимым взглядам и тупиковым дорогам, заносимый снегом зимой и облетевшей с вязов листвой осенью. Летом камень будет становиться тёплым и будто бы живым, ладонь, кажется, могла бы ощутить пульсацию каких-то невидимых потоков. От мая к июню будет теплеть под солнцем его взгляд. Для нас, тех, кто имел честь знать Джагита, когда камень был у него внутри, а не снаружи, это будет разительное преображение. «Мы и не знали, что ты может смотреть на мир с такой лаской. Должно быть, у тебя внутри теперь настоящая кровь», — однажды накарябает кто-то на крыше у его ног. Это, несомненно, мог быть только Аксель. Увидев надпись, Марина расплачется, да и я едва смог сдержать слёзы.
Глава 11
В которой всё заканчивается
Красноречивое описание моих успехов из уст Мары не произвело на Акселя и Костю никакого впечатления. Кажется, мы прервали их какой-то важный разговор, поэтому, немного потоптавшись и ощутив на себе тяжесть многозначительного молчания, отправились восвояси. Быстро темнело. Под ногами крутился Мышик; Марина вызвалась под шумок прогулять его по газонам, и без того загаженным сейчас бутылками и мятыми сигаретными пачками. Я отправился искать Анну. Заглянул в повозку с животными, увернулся от брошенной какой-то из обезьянок банановой кожуры. Собрался уже уходить, но меня остановил голос:
— Шелест, погоди.
Анна сидела в клетке с тигром. Его белая шерсть чуть светилась в темноте, словно вылепленная из гипса. Только кончик хвоста слегка шевелился, разрушая иллюзию неподвижности.
Голос звучал откуда-то из недр клетки.
— Что ты там делаешь? — спросил я.
Я не стал спрашивать: «Не боишься ли ты Бориса» или что-нибудь в этом роде. Бояться Бориса могли только те, кто видел в первую очередь сто восемьдесят килограмм мышц и слышал стук когтей, а не добрейшую душу и спокойное ворчание.
Сейчас я слышал именно его. Тихий рокот, как будто где-то неподалёку работал холодильник.
— Кручу хвосты тиграм. А как ты думаешь?
— И всё же?
— Здесь мой дом. Здесь теперь мой зверь.
Пузырьками воздуха к поверхности моего сознания всплыли рассказы о драконах, которые я слушал долгими вечерами в дороге.
— Но это же настоящий зверь!
Смешок.
— Именно такой меня и устраивает.
Я протянул руку и подёргал за прутья. Заперта. Борис приоткрыл один глаз.
Решётка запиралась задвижкой снаружи, лязгающей всегда так, что даже тигр закрывал лапами уши, но её можно было запереть и изнутри, просунув руку между прутьями. Думаю, для существа с такой мягкой, как разогретый пластилин, душой как у нашего тигра-альбиноса, которого каждый день вдосталь кормят мясом, она слишком заржавела и приобрела за годы служения скверный характер.
Я протянул левую руку, и задвижка заскрипела, выползая из петли.
Глаза лгали, сначала уверив, что отсюда ты можешь коснуться противоположной решётки, а потом — что для этого придётся сделать три или четыре хороших шага.
— Анна?
— Он порвёт тебя. Не подходи ближе.
— Он же ручной.
— Он ручной настолько, насколько могут быть ручными тигры, — отрезала Анна.
Это утверждение звучало так же, как утверждение о крепости ствола новорожденной берёзы. «Она хрупкая, насколько могут быть хрупкими деревья». Конечно же, он был ручным. Аксель таскает ему целые ломти мяса.
И в этот момент там, в темноте, что-то тихо хрустнуло. Ноздри, трепеща от ужаса, донесли до меня влажный кровавый запах.
— Анна? — позвал я, но ответом стал только протяжный, полный боли стон.
Я кубарем вывалился из повозки. Дверь лязгнула, будто пасть, которая хотела схватить меня за полу рубашки, в разные стороны шарахнулись кони. Привязанная Цирель вскидывала голову, тянула на себя молоденький каштан, и тот клонился и клонился к земле. Повозки мы оставили за квартал от автобуса, в небольшом сонном скверике с голубятней, и вот теперь я, спотыкаясь и обдирая бока о плечи домов, нёсся обратно.