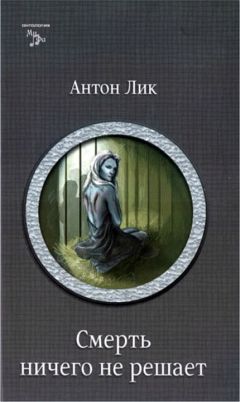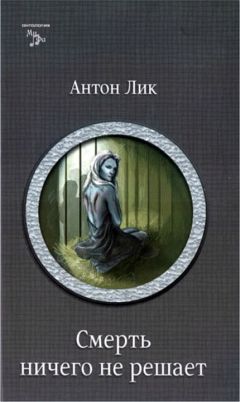Нету! Нету трупа! Элья жива!
Помогите!
Еще один внутренний крик и снова эхо.
— И это другое — золото, ясень-хрясень.
Откройте! Выпустите!
Не слышат. Потому что она, Элья, не размыкает рта. Потому что она, Элья, мертва.
— Ежели, ясень-хрясень, осторожно кожи подрезать да досочки оттопырить — можно чуток достать. Да такой случа́й разок только и бывает! Ежели с умением — никто и носа…
— Дурак ты, Техтя, — заметил первый. И ударил. Элья не видела удара, но знала — был. А подтверждением — хрип да скрежет. Снова темнота.
Старая. Плотная.
— Мерзавец, — говорит Каваард, перебрасывая из ладони в ладонь разноцветные камушки. — Просто еще один мерзавец. Увы, таких много и даже слишком. Знаешь почему?
Подброшенные камушки зависают в воздухе, складываются радугой. Красиво. Но Элья хочет не этой красоты, а выбраться отсюда. Однако вместо бегства садится на жесткую траву и говорит:
— Ты мертв.
— Мертв, — соглашается Каваард. — Ты же меня убила.
Он не двигается, но теперь Элья видит не лицо — спину. Потухшие крылья, пятно на фракке, рукоять ножа торчит точно из спинного узла.
— Прости. Я не… Нет, я хотела! Тогда это казалось правильным.
— А сейчас?
…сейчас вам меньше всего следует беспокоиться о подобных мелочах. Конечно, живая склана была бы весьма кстати, но…
Это второе тело тоже неподъемное. И горячее, словно вместо крови по жилам расплавленный металл течет, сам себя согревая.
Но это тело хотя бы дышит. И сердце в нем есть; медленное, уставшее, но стучит.
— Она моргнула.
Знакомый голос. Невозможно. Показалось.
— Показалось, — подтвердил хан-кам, приподнимая веки. Заглянул в зрачки, отшатнулся, выпадая из поля зрения. Исчез.
Сволочь! Убийца! Предатель!
— Предателей нужно убивать, — произнес Каваард голосом Ырхыза.
Теперь камушки лежали на листе желтого пергамента. Рваные края, ломаные линии. Карта? Это ведь та карта, которую старый Вайхе показывал. Откуда она здесь? Или «здесь» есть все?
— Это другая. Просто похожа. — Каваард почесал плечо, и рукоять ножа качнулась, плотнее врастая в спину.
— Почему они хотели твоей смерти?
— Думали, она что-то решит. И продолжают думать. Вот только смерть ничего не решает. Ибо смерть ведет лишь к смерти и ни к чему более. Теперь ты понимаешь?
— А я? Почему именно я?
— А почему бы нет? — Каваард, зачерпнув горсть песка, высыпал на карту. Уже не песок — пепел перегоревших крыльев, перетертых тел засыпа́л линии границ, ленты рек и пятна городов. — Почему не ты?
— …Ты запомни, многоуважаемый Усень, — сиплый старческий голос проникает сквозь дерево. — Всегда найдется тот, кто более терпелив, или умен, или силен, или ловок. Или, наоборот, менее. Менее брезглив и одурманен честью.
Звуки отчетливее. Крики, гомон и конское ржание. Запахи проявляются патокой с редкими нотами тлена. Последний приносит страх и крик, который опять никому-то не слышен.
— И в конечном счете все зависит от того, где ты чуть более, а где — чуть менее.
— Вы мудры, Хэбу-шад, — отозвались с другой стороны.
— Я терпелив. И немножечко удачлив.
Люди замолкают, предоставляя говорить колесам и камням. Стук, звон, скрежет протяжный — на гранитной шкуре дороги будет новый шрам. Колдобина и подъем. Острый бок в попытке пробить обод … Громко. Заглушает.
Я жива! Слышите? Жива! Выпустите…
— Такие вещи выпускать нельзя. Ладно — склана, она в кулаке, но мальчишка-кхарнец! Пусть он не в себе, но вдруг окажется достаточно сметлив, чтобы заметить некоторое… хм, несоответствие?
Вкрадчивый шепоток хан-кама пробирается под веки вместе с горячим пламенем.
Жар к жару. Вдох к вдоху. Жизнь к жизни. Хорошо.
— На молоко дуешь. Мальчишка сидит в зверинце и одинаково болтает, что с людьми, что со зверьми. Велика опасность, выше аж некуда.
Другой голос. Знакомый и почти правильный, но другой. Возможно? Или это тянется агония, и бред становится привычным…
Элья и привыкла. Лежала, слушая, как переваливается в груди сердце. Дышала, пользуясь тем, что «здесь» — где бы оно ни находилось — позволено дышать. Слушала.
— Не трогай мальчишку, слышишь, Кырым?
Ей поднимают веки, но разглядеть, что по другую сторону их, не получается. Мутное. Плывет, пятнышками рассыпается. А Кырым-шад не спешит с ответом.
Сука он. Недобиток. Ничего, Всевидящий попустит — исправится недоразумение.
— Не много ли ты на себя берешь?
— Не много. В самый раз для кагана.
Элья ему почти поверила.
— Я умер, потому что верил, — Каваард терпелив, он дождался ее возвращения. Вот только карту почти замело пеплом. И косым парусом торчало из него крыло икке. Дрогнули жилы, сплетаясь в знакомый узор, сузилась и заострилась лопасть. Это Эльино крыло! Она протянула руку, но прикоснуться не сумела.
— Оно того стоило?
— Умирать — нет, жить — да. Только так и стоило.
— Я мертва?
— Еще нет.
— Я жива?
— Еще нет.
Каваард ждет. Позволяет ей обойти дворик вдоль стены, коснуться золотарницы — жесткие листья царапают ладонь. Он даже разрешает нырнуть под мостик. Знает, что арка, вывернувшись наизнанку, вновь толкнет во двор. И только тогда говорит:
— Если хочешь что-то увидеть, то садись и смотри.
Перечить Элья не смеет. А пепел на карте приходит в движение.
Дорога. Красный камень. Копыта. Много. Сапоги. Сапог мало, один рваный, но след от него самый четкий, пылающий. Постепенно тухнет, впитывается.
А если присмотреться, то… Камень сам хватает и за колеса, и за копыта, и за ноги. Липнет, тянется жадными ртами и пьет непонятное, проталкивая в глотку-жилу. А та ползет под плитами, повторяя каждый изгиб дороги. На некоторых перекрестках еще и ветвится.
— Что это было?
— Дорога, — Каваард улыбался, но левая сторона его лица вспухла черными горошинами язв.
— Какая дорога?!
— Красная. Ты же сама видела.
Видела. Только это видение — ненастоящее, как все вокруг. Она, Элья, бредит на пороге смерти. Перегорела, отдавая тегину больше, чем могла.
Она посмотрела на руки. Кожа между пальцами растрескалась, обнажая серое волокно мышц.
— Жалеешь? — тотчас поинтересовался Каваард.
— Нет.
И это было правдой. Но Каваард снова молчит, предоставляя говорить ей.
И Элья произносит:
— Он… был бы ужасным правителем. Возможно, так лучше.
— Кому?
— Тем, кто решил. Точнее, они думают, что лучше, но… Это не решение.