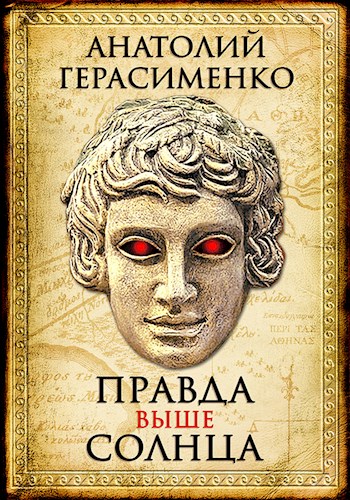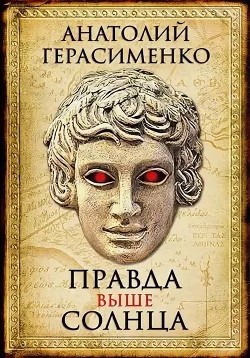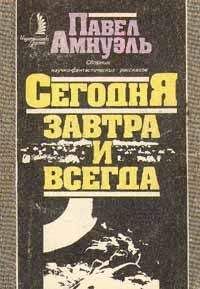что оставался позади.
Вскоре боль заполнила собой всё, и ничего, кроме неё, не осталось. Боль обрела форму. Обрела чувства. Обрела память – память о боли.
Обрела жизнь.
Темнота развеялась, превратившись в ледяное небо с колючими звёздами, которые не давали света. Звёзды падали, становились твердью, покрытой мёртвым песком. Песок громоздился холмами, стлался до невидимого горизонта, уходил в черноту, сам становился чернотой.
Нужно было сделать шаг. Невыносимый, исполненный боли шаг. Но для этого требовались все силы во вселенной, а сил не оставалось. Ни на вдох. Ни на взгляд. Ни на мысль. В самом дыхании, в зрении, в уме – везде гнездилось столько страдания, что хотелось вернуться в ничто. Навсегда. Пустота и забвение казались теперь очень неплохим вариантом по сравнению с болью.
Но он не мог вернуться.
Ему не давали.
Что-то поддерживало его зыбкое, сотканное из мучений существо. Не позволяло раствориться, уйти обратно во мрак. Он напрягся, пытаясь освободиться; ничего не вышло, только сильней стали муки, из которых он теперь состоял. Хотелось закричать, заплакать, попросить пощады. Но не было ни рта, ни лёгких, ни горла. Лишь чёрная пустыня ждала его шагов, и ледяные звёзды безразлично глядели на то, что с ним стало.
Тогда, не зная, как быть по-другому, он шагнул вперёд и побрёл к горизонту.
Чем дольше он шёл, тем светлей становилось вокруг. Звёзды блекли и пропадали, на песке проступали контуры невиданных, опасных растений – он обходил их и следовал дальше, переставляя созданные из боли ступни, размахивая созданными из боли руками, поднимая к небесам созданное из боли лицо.
Так прошла ещё вечность. Дольше прежней, потому что путь в этой вечности был отчаянием, время – пыткой, и жизнь – гибелью. Но за отчаянием и муками мнился кто-то извне. Неясный. Сильный. Надёжный. Хотелось воззвать к нему, пробиться сквозь черное небо, разметать звёзды. Тщетно; оставалось лишь идти вперёд, к незримому, бесконечно далёкому окоёму.
А потом взошло солнце.
И пустыня пропала.
Пропала вся, разом, будто стёрли рисунок на стекле, которое заслоняло настоящий мир. Он смог открыть глаза – по-настоящему. Сделать вдох – по-настоящему. И по-настоящему, хоть и очень тихо, застонать, вспомнив всё, что случилось.
Тело покоилось в жидкости, источавшей слабый химический запах. Над головой возвышался матовый колпак, из-за которого лился свет. Тихий гул пронизывал всё кругом. На лицо что-то давило, при каждом вдохе глубоко в горле ощущалась мерзкая жёсткая помеха. Но – о чудо, о блаженство – боль чуть отступила, будто часть её растворилась в волшебной влаге.
И ещё очень хотелось встать.
Кадмил, потревожив плеснувшую жидкость, поднял руку, шевельнул перед глазами мокрыми, исхудавшими пальцами. Простое это движение родило тошноту. Хотел повернуть голову, но не вышло: что-то по-прежнему держало лицо, будто морской краб схватился за нос, растопырил цепкие ноги по щекам. То была маска, и он принялся бороться с нею, сдирая ремни, кашляя, хрипя и пытаясь выблевать трубку, засунутую глубоко в горло. Тисками схватывало затылок и шею, резало ржавой пилой кадык, простреливало челюсть. Он не сдавался и наконец сорвал проклятую маску, после чего какое-то время отдыхал, ловя ртом воздух и пересиливая мучительные волны дурноты.
Тронул грудь, нащупал ямку напротив сердца. Неохотно, со страхом провёл рукой по шее. Бугристый шрам кольцом охватывал горло и замыкался на затылке. Сзади, во впадине под черепом, пульсировала горячая лава. Растекалась по спине, жгла поясницу, поджаривала кости ног. Кипела в лёгких, отстукивала в сердце. Распухала в голове.
Отдышавшись, Кадмил вытянул руки и надавил на колпак. Зашипело, лязгнуло. Матовая полупрозрачная крыша его колыбели поползла в сторону, открывая мраморный потолок с горящими осветительными кристаллами. Хватаясь за борта, он сел. Вдохнул прохладный чистый воздух, жутко раскашлялся – до удушья, до писка в судорожно сжатой гортани. С трудом перевёл дух. Обнаружил ещё одну трубку в соответствующем месте. Со стоном избавился от неё.
Хотел позвать жрецов – из горла вышел нелюдской, жалкий хрип. Кадмил огляделся. Увидел рядом металлический столик, на столике – поднос, стетоскоп, какие-то щипцы. Схватив стетоскоп, он раздражённо и со страхом застучал по подносу.
Через несколько мгновений вбежал жрец-медик в белой накидке.
– Мой бог! – выпалил он, склонившись. – Какая радость! Вы очнулись!
– Х-х… – просипел Кадмил. – Х-х-вды-ы…
Ему тут же принесли воды, и он, проливая на себя, давясь и кашляя, напился. Глотать было, против ожидания, не больно; напротив, чувствительность горла оказалась хуже обычного, и оттого поначалу становилось неясно, попадает ли вода, куда нужно.
Медики стояли и благоговейно смотрели, как он пьёт.
– Х-х-дежд-ху, – пролаял он, отставив чашу.
Жрецы переглянулись.
– Мой бог, – начал один, – вам ещё не стоит…
Кадмил запустил в него стетоскопом.
– О-х-дежду! – на сей раз вышло много лучше.
Ему помогли облачиться в хитон, кое-как обернули вокруг тела гиматий, зашнуровали сандалии. Встав, он пошатнулся; тут же подскочил медик, подхватил, как старика, за плечи, но Кадмил отпихнул его и, сопя от напряжения в подгибающихся ногах, вышел из комнаты.
Как и предполагалось, он находился на пятом этаже, в лаборатории Локсия. В одной из комнат, которые никогда не отпирались на его памяти; ну, теперь зато известно, что тут спрятано. Знаменитая реанимационная биокамера Локсия и впрямь сотворила чудо. Потому что Кадмил точно помнил…
Он вздрогнул и привалился к стене, тяжело дыша через нос, ожидая, пока пройдёт тошнота. Да, он помнил. Удар, который сотряс, кажется, весь мир. Боль, расколовшая ночное небо. Отвратительное небывалое бесчувствие – тело есть, и его нет, оно есть, и в то же время нет... И всё кружится, вертится, мелькает перед глазами. А последнее, что видишь – собственный обезглавленный труп.
Кадмил согнулся в бесплодном спазме. Выждал, пока отступит боль, что растеклась по позвоночнику. Перевёл дух, поправил трясущейся рукой складки гиматия на плече.
Стражники у двери – хорошо знакомой двери – испуганно косились на него, но оставить пост не смели.
Кадмил выдохнул сквозь сжатые зубы. Кивнул стражникам.
И постучал.
– Открыто, – послышалось изнутри.
Что ж, оставалось только войти.
Локсий сидел за столом, просматривая свитки. В окне кабинета сияло утреннее свежее небо. Картины на стенах были сегодня сплошь пейзажами: морская гладь, белая косточка маяка на зелёном берегу, какая-то нездешняя степь с лазурным отливом. Изваяния стояли у входа, свирепо глядя сквозь прорези мраморных шлемов. Мужчина и женщина: Арес и Афина Паллада.
– Мой бог, – прохрипел Кадмил.
Локсий поднял взгляд.
– А, Кадмил, проснулся! Садись.
Приглашение оказалось как нельзя кстати, потому