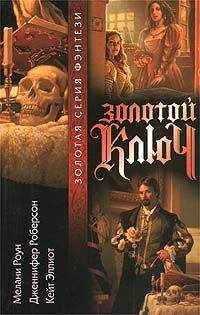Пробил колокол, возвещающий о наступлении полуночи и Миррафлорес, месяца цветения, плодородия и возрождения. Краска еще не успела просохнуть, а Гиаберто уже вплетал тончайшие узоры тайнописи — следы птицы на болотном песке, линии на ладони: “Чар больше нет. Приходит свобода”.
Над крышами домов забрезжил рассвет, когда Гиаберто нанес последний мазок и отступил назад.
— Матра эй Фильхо! — послышался шепот Кабрала.
Движения еще не было, но они почувствовали некое изменение, перемещение воздуха.
Дверь открыта!
Комната на огромном портрете оставалась неизменной во всех деталях. За исключением одной — она была пуста, словно в ней никогда никто и не находился. Гиаберто опустился на стул как раз в тот момент, когда щеколда на его картине отодвинулась.
Дверь открылась. Женщина осторожно переступила через невидимый порог и вошла в ателиерро. Она стояла и смотрела на них моргая — ее глаза еще не привыкли к новому освещению. Она поднесла руку к горлу, словно пыталась сказать что-то, но не могла произнести ни звука. Неуверенно подошла к стене и провела пальцами по гладкой деревянной поверхности. Потом медленно повернулась, шурша пышными пепельно-розовыми юбками, и огляделась по сторонам. Наконец подошла к Элейне, коснулась ее руки, платья, ленты на поясе. Руки у женщины оказались прохладными, но, вне всякого сомнения, она была живая.
— Тебя зовут Элейна. — Она говорила с необычным акцентом; какого Элейне никогда не приходилось слышать. — Я видела, как ты рисовала, и слышала, как ты говорила со мной. Меня зовут Сааведра. Сколько времени прошло?
Она сидела в кресле в ателиерро Грихальва, где все так переменилось! Здесь стало гораздо просторнее Она рассматривала своих собеседников: девять Одаренных иллюстраторов, старика, молодую женщину, свою ровесницу.
Нет. Не ровесницу. Невероятно. И все это сотворил Сарио.
Та, другая женщина из рода Грихальва, молода. А вот она нет. Она смогла вычислить свой возраст, когда ей все рассказали: триста шестьдесят три года.
Матра эй Фильхо! Что он наделал, на что употребил Дар, Луса до'Орро? Зачем позволил себе стать жертвой честолюбия, зачем сотворил это, считая, что это единственно возможный и необходимый путь?
И его поддержал Раймон.
Она закрыла глаза. Сангво Раймон умер дважды: первый раз, когда погрузил Чиеву в Пейнтраддо, а потом его убили годы, десятилетия, века.
Триста шестьдесят три года.
Она — самая старая представительница семейства Грихальва.
Какая ирония! Ее охватила ярость — от того, что он посмел сотворить с ней такое!
Сколько времени прошло! И почти никаких воспоминаний о прошедших годах, если не считать того, что она видела в зеркале, которое он нарисовал на портрете. Века не отразились на ее фигуре и лице. Ребенок стал всего лишь на три дня старше, а ведь его отец умер три века назад.
Алехандро умер.
Послали за едой, и она набросилась на нее, не в состоянии справиться с нуждами своего тела, освобожденного из заключения, от уз заклятья. Но ее мысли, спешащие вперед, натыкающиеся друг на друга в этой безумной гонке, ее сознание восставали против того, что она узнавала: Сааведра стала всего на три дня старше, а ее не рожденному еще ребенку исполнилось три месяца.
Она ела, не обращая внимания на удивленные взгляды. Они смотрели на нее, перешептывались, все, кроме молодой женщины, Элейны, сидевшей рядом. Она ждала.
Алехандро умер.
Сааведра положила вилку, та тихонько звякнула. У нее дрожали руки, и она не могла унять эту дрожь. Может быть, ее тело таким образом протестует против того, что с ним происходит? Может быть, плоть начала разлагаться, когда ее освободили из темницы?
Сааведру окатила волна боли. Матра Дольча…
Нет. Это не разложение. Горе.
— Умер, — сказала она дрожащим голосом. — Вчера он был жив. Сегодня уже мертв.
— Кто? — тихо спросила Элейна.
— Алехандро. — Она любила называть его по имени. Теперь это причиняло ей боль, потому что он не услышит ее. — Алехандро Бальтран Эдоард Алессио до'Веррада, герцог Тайра-Вирте.
— Мне очень жаль, — пробормотала Элейна. Горе можно погасить гневом. Так она и сделала.
— Но Сарио жив, и я ему отомщу.
— Сарио? — спросил Кабрал. — Сарио Грихальва? Он же умер. Игнаддио Грихальва написал очень трогательную картину “Смерть Сарио Грихальвы”. Она висит в Пикке.
Сааведра вздрогнула.
— Яадди?.. — Он ведь тоже умер. Как и многие другие. — А что такое Пикка?
— Маленькая галерея, в которой мы, Грихальва, выставляем картины для всеобщего обозрения.
— Для всеобщего обозрения? Но.., никто, кроме самих Грихальва, не может войти в наш дом!
— Сейчас, — как можно мягче объяснил старик, — это дозволено. Эйха, как больно! Известно о ней гораздо больше, чем ей о них, а мир, в котором они живут, существует несколько веков спустя.
— Это не важно, — сухо молвила Элейна.
В ее словах не было ничего обидного.., разве что тон… Сааведре сразу понравилась Элейна, и она надеялась узнать ее поближе. Мир и в самом деле изменился. Элейна Грихальва, лишенная Дара женщина, оказалась рядом с Вьехос Фратос.
— Почему ты веришь, что Сарио Грихальва жив? — спросила Элейна.
Сааведра почувствовала, что молодая женщина уже знает ответ на свой вопрос, но не готова произнести его вслух — а может быть, и для себя самой. Она встала из-за стола, прижала руки к настоящему дереву, а не нарисованному и подошла — о Пресвятая Матерь, какое это счастье иметь возможность ходить! — к огромной доске, стоявшей у стены. Принялась изучать то, что осталось от ее тюрьмы.
Конечно, он гений. Это видно в каждой линии, в каждой тени. Разве можно, взглянув на это произведение, не узнать руку мастера, его создавшего?
— Сарио, — выдохнула она. — Мой Сарио. — Даже теперь, когда ее тела на картине не было, композиция оставалась безупречной. — Вот зеркало, — сказала Сааведра и махнула рукой. — Смотрите, оно стоит на мольберте. Одна из его причуд, так же как и то, что он нарисовал Фолио. Это говорит о высокомерии и самоуверенности, что очень характерно для него. — Сааведра чуть повернулась, взглянула на иллюстраторов и поняла: они еще не сообразили, что она имеет в виду. — Вот, — продолжала она, снова махнув рукой. — Благодаря зеркалу я осознала, что он со мной сотворил, увидела, что мир за пределами портрета существует, живет своей жизнью, а Сааведра Грихальва — нет. — Ее сердце опять затопила волна боли. — Та Сааведра, которую никто из живущих не знает.
На лице Кабрала появилось сомнение, но оно тут же сменилось горьким осмыслением того, что несколько секунд назад было произнесено вслух.