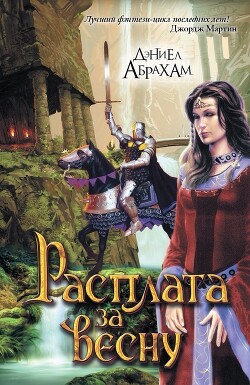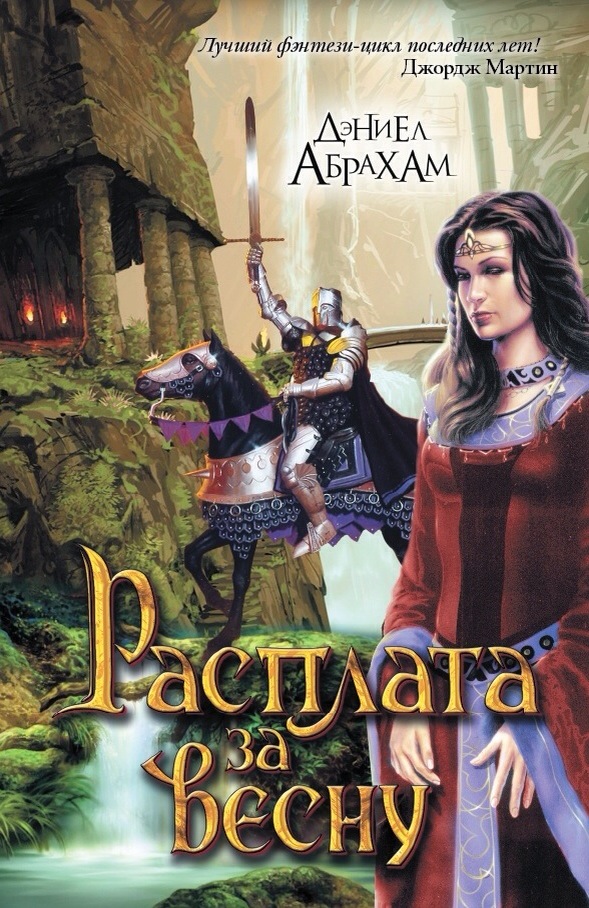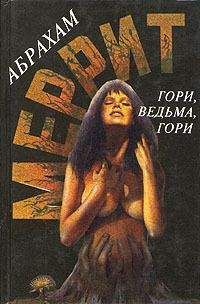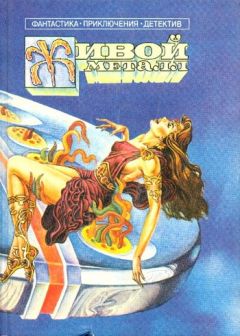— Да, — согласился Ота. Она улыбнулась и стала выглядеть, как девочка.
— Я люблю тебя, папа-кя.
— Можно я посижу с тобой? — спросил он. — Я не хочу отвлекать тебя, но окажи мне услугу.
Он погладил тыльную сторону ее ладони кончиками пальцев. Она взяла рукав его платья и посадила рядом с собой. Пальцы ее левой руки переплелись с пальцами его правой. На мгновение все стихло, только река мягко накатывалась на камень, тихо шипели горящие факелы и ухали совы. Потом Эя наклонилась вперед, кончики пальцев коснулись первой таблички. Ота отпустил ее ладонь, и теперь уже обе ладони стали гладить воск. Она начала петь.
Слова всегда остаются словами. Он знал некоторые из них и понял несколько фраз. Ее голос улетал в холодную ночь, пока пальцы медленно двигались по разбитым табличкам. Достигнув конца, она вернулась в начало.
Хотя вокруг не было ни стен, ни утесов, от которых мог бы отразиться звук, ее голос начал первым перекликаться с другим, а потом появилось эхо.
Глава 30
Маати в одиночку шел через темноту, испытывая глубокое чувство нереальности. Он отказал Оте Мати, Императору Хайема. Он отказал Оте-кво. Многие годы, возможно всю жизнь, он восхищался Отой или презирал его. Маати дважды ломал мир, однажды служа Оте, а сейчас, через Ванджит, будучи в оппозиции к нему. Но на этот раз Ота был неправ, а он — прав, и сам Ота это признал.
Как странно, что в такая мелочь принесла ему такое глубокое чувство покоя. Даже тело стало легче, а плечи — почти расправились. К своему огромному удивлению, он сообразил, что избавился от бремени, которое нес, не подозревая о нем, большую часть жизни.
Маати в одиночку шел через темноту Удуна, потому что он так решил.
Слабый ветерок шевелил бурые лозы и обнаженные ветки. Вокруг него слышалось трепетание крыльев, прилетавшее ниоткуда. Воздух был достаточно холодным, изо рта шел пар, постоянно звучал приглушенный плеск реки. С каждым шагом появлялись все новые детали пути: топор, съеденный ржавчиной; дверь, все еще висящая на сгнивших кожаных петлях; зеленые светящиеся глаза какого-то мелкого хищника. Трещины каменной мостовой возникали прямо перед ним, словно его ночное шествие вредило городу, а не выявляло распад.
Он и Ванджит так долго были вместе. Они знали друг друга, помогали друг другу. Она должна понять, что только вмешательство андата повернуло его против нее. Дворцы хая Удуна становились все выше, хотя, казалось, не приближались, пока, на протяжении одного вздоха, он не шагнул в большой двор. Мох и лишайник почти полностью покрыли изображения спиралей на белых, красных и золотых камнях. Маати остановился и поднял фонарь над головой.
Когда-то все это было захватывающим дух свидетельством силы, изобретательности и огромной уверенности. Колонны поднимались в черный воздух. Статуи мужчин, женщин и зверей нависали над входом, но сейчас бронза исчезла под зеленым и серым. Он вошел в парадный зал, такой огромный, что свет фонаря не мог его осветить. Не было видно ни стен, ни потолка. Река молчала. Далеко вверху, в неподвижном воздухе, трепетали крылья.
Маати глубоко вздох пыль и гниль и, несмотря на прошедшие после разрушения полтора десятка лет, ощутил слабый запах дыма. Здесь пахло трупом истории.
Он пошел вперед по паркету из эбенового дерева и дуба; узор был разрушен, некоторые дощечки исчезли — работа воды и времени. Он ожидал, что его шаги вызовут эхо, но нет — ни один звук не вернулся к нему.
Слева и вверху мерцал свет. Маати остановился. Он опустил фонарь и опять поднял его. Мерцающий свет не сдвинулся. Не отражение. Маати повернул и пошел к нему.
Большая каменная лестница уходила во тьму, на ее верхушке горела единственная свеча. Маати медленно поднялся по ступенькам, так, чтобы не устать. Перед ним открылся зал, уже не такой ошеломляюще огромный, как первый; Маати смог различить потолок, да и стены были в наличии. Далеко в глубине зала горел второй свет.
Ковры под ногами сгнили годы назад. Битое стекло и упавший хрусталь могли образоваться как из-за неисправностей, так и при штурме города. Следующий лестничный пролет — такой же большой и такой же крутой — мог только свидетельствовать о жестокости, случившейся много лет назад. Посреди каждой ступеньки лежал человеческий череп, в глазницах которого двигались тени, когда Маати проходил мимо. Он надеялся, что эти мрачные символы оставили гальты, хотя и не верил сам себе.
Вот, говорила Ванджит, жизнь каждого из них оборвали гальтские солдаты. Это было ее оправдание. Ее почетная стража.
Он должен был догадаться, куда приведут его свечи. Большие двойные двери приемной хая Удуна стояли закрытыми, но через щели сочился свет. После такого долгого пути в темноте, он наполовину ожидал, что дверь откроется в огонь.
В свое время комната внушала почтение. И внушала его сейчас, по-своему. Арки, угловатые стены, тонкие железные канделябры, изящные как кружева, когда-то державшие сотни зажженных свечей — все они были предназначены для привлечения внимания к возвышению, черному лакированному креслу и широкому открытому окну, которое шло от потолка к полу. Когда-то на сиденье восседал хай, и весь город раскидывался за ним, как плащ. Сейчас плащом была только темнота, а на черном кресле ворковал Ясность-Зрения.
— Не думала, что ты придешь, — сказала Ванджит из теней за его спиной. Маати вздрогнул и обернулся.
От утомления и голода девушка отощала. Темные волосы были стянуты сзади, но несколько выбившихся прямых вялых прядей обрамляли ее бледное лицо.
— И почему я должен был не прийти?
— Из-за страха правосудия.
Она шагнула в свет свечи. На ней было порванное шелковое платье, похищенное из какого-то аристократического гардероба, разрушенного четырнадцать лет назад. Голова склонилась под невидимым весом, и она двигалась, как старуха, согнутая болью лет. Она стала Удуном. Война, разруха, руины. Все было ее. Ребенок — нечеловеческое чудовище, принявшее форму ребенка — закричал от радости и захлопал крошечными ручками. Ванджит вздрогнула.
— Ванджит-тя, — сказал Маати, — мы можем поговорить обо всем этом. Мы можем… все это еще может закончиться хорошо.
— Ты пытался убить меня, — сказала Ванджит. — Ты и твоя ручная отравительница. Если бы получилось по вашему, я бы уже была мертва. Как, Маати-кво, ты предлагаешь поговорить обо всем этом?
— Я… — начал он. — Должен быть… должен быть путь.
— И какой еще я могла стать? — спросила Ванджит, идя к черному креслу с его крошечным зверем. — Ты знаешь, что сделали мне гальты. Неужели ты хотел, чтобы я получила такую силу и забыла? Простила? Неужели прощение может быть возмещением за их смерти?
— Нет, — сказал Маати. — Конечно нет.
— Нет, — сказала она. — Поэтому тебе и не было дела до того, что я их ослепила, верно? Это было мое решение. Мое бремя. Я выбрала принять его на себя. Невинные женщины. Дети. Я могла уничтожить их, и ты бы отнесся к этому, как к правосудию, но я зашла слишком далеко. Я ослепила тебя. На пол-руки я обратила мою силу против тебя, и за это ты осудил меня на смерть.
— Андат, Ванджит-кя, — сказал Маати треснувшим голосом. — Они всегда интригуют против своих поэтов. Они манипулируют ими совершенно ужасными способами. Эя и я…
— Ты это слышал? — сказала Ванджит, наклоняясь к Ясности-Зрения. Черные глаза андата встретились с ее. — Оказывается, это твоих рук дело.
Андат заворковал и взмахнул ручками. Ванджит улыбнулась этому бессловесному жесту, понятному только им двоим.
— Я считала, что могла бы сделать мир целым, — сказала Ванджит. — Я считала, что могла бы иметь ребенка. Создать семью.
— Ты считала, что могла спасти мир, — сказал Маати.
— Я считала, что ты мог, — сказала она голосом, наполненным холодным уксусом. — Смотри на меня.
— Я не понимаю, — сказал он.
— Смотри.
Ее лицо заострилось. Он увидел пятнышко грязи на ее щеке, потом разбросанные по щеке поры и торчащие из них отдельные волоски, более тонкие, чем самые тонкие нитки. Ее глаза превратились в лабиринты кровяных потоков, текущих по белкам, зрачки сияли, как волчьи, свет свечи отражался от их глубин. Кожа стала мозаикой, крошечные чешуйки которой ломались и разбрасывались при каждом движении. Насекомые, настолько маленькие, что их не видел обычный глаз, копошились у корней ее волос и ресниц.