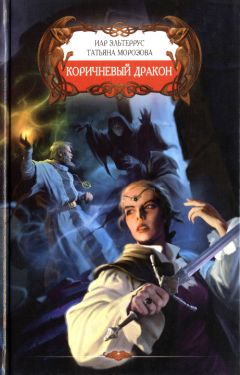Гартман честно продержался под ударами "мельниц" отпущенные ему двадцать секунд. Потом я захватил его оружие в замок, резко закрутил, разведя его ладскнетту и дагу в стороны, и в коротком прыжке, здрасте вашей маме! в грудину, ногой… Тык!
Всевидящее Око, преодолев в свободном полете метра четыре, грохнулся на пол всей плоскостью спины. Грохнулся и остался лежать распластанным, широко хватая воздух ртом.
А меня не взяли дублировать в "Роберта Парижского", — припомнил я давнюю обиду на функционеров от кинематографа за черствость к самородку. — Какой талант! Какой матерый человечище! И не ко двору!
Талант и матерый человечище, сам прибывал не в лучшем состоянии, чем уделанный противник. Стоял и пыхтел как паровоз из капремонта. Только что пар из жопы не травил.
Поизнахратился ты, дружочек! — сокрушался я охватившей меня слабости. Сокрушался как старый блядун, только-только слезший с молодки. Смог ведь все-таки! Смог!
Смог то смог, да самого чуть кондрашка не хватила.
— Вставайте Гартман, — кое-как отдышавшись, проговорил я. Руки помочь подняться не протянул — обойдется.
Гартман сел, потрогал ушибленную грудь.
— До свадьбы заживет, — пообещал я ему выздоровление. — А нет… — ну как скажите не воспользоваться плодами победы и не позудить человека. — Жаль мэтр Букке умер. Он в ушибах разбирался….
— Победа за вами, — признал он мое мастерство трюкача.
— Вы серьезно? — не унимался я. — Тогда выпустите меня.
— А кто вас держит, — Гартман пожал плечами. О чем это я ему толкую.
— Так ведь заперто, — напомнил я ему.
— Простите, забыл, — извинился он и громко свистнул.
— Теперь открыто? — спросил я.
— Теперь открыто, — ответил Гартман.
Сняв клаппенпанцир и бросив дан-гайны на столик, я вышел из зала. Геройски дополз до библиотеки, кишки колотились как у диабетика при кризе, и рухнул в полюбившееся последнее время кресло. Посидел, попыхтел да и позвонил в колокольчик.
— Притащи, друг любезный, — наказал я слуге, — пожрать чего-нибудь мясного. И соответственно винца к мясцу. Да не бойся переборщить в количестве. Хуже будет, коли мало принесешь.
Слуга все понял правильно и припер на разносе целого порося в трюфелях, на взвод хлеба и кулацкую четверть "Пастушьего ручья".
Начал я конечно с заздравной. Заел зарумяненной ножкой и заздравную повторил. Три раза. Откушав хрустящего поросячьего бочика, богато политого соусом, подправил аппетит чарой. Поковырял грибков, пожевал распаренную мякоть деликатеса, и множество раз запил жгучий вкус вином. Столь множество, что съеденное всплыло к глотке, просясь обратно. Оборов слабость, приказал жратву снести обратно на кухню. Сам же уснул в кресле, умиротворенно порыгивая и попердывая.
Обычно, попьяне сны видишь припохабные или же не видишь во все. Так вот я снов не глядел и спал спокойно. Проснулся оттого, что сверзься с кресла под стол. Полежал, вдыхая пыльный воздух ковра. Попробовал устроиться удобней, ничего не получилось — рост не позволил. Пришлось вылазить. Голова гудела, но не сильно. Можно было и не опохмеляться.
— Показал бы добрый человек, где я тута официально сплю. А то чисто бомж по углам да закоулкам ошиваюсь. При таком чине надобно спать на пуховых перилах, шелковых простынях под тончайшим покрывалом из атласа. Да в изголовье гада какого-нибудь с опахалом приставить, бдеть над барским покоем.
Покрутившись в кресле, второй раз приспать не удалось, поднялся. Расправляя суставы и хрящи в организме, потянулся, не чаяно сбросив с полки книжное надгробье толкового словаря.
Фолиант грохнул на пол и раскрылся.
,Деторождение есть следствие благоприятно проистекавшего процесса совокупления двух особей противоположного пола", — оповещал первый абзац двести второй страницы.
— Следствия следуют, процессы…, - изрек я, хмуря гудящее после выпитого чело. — Пойду, посмотрю, что поделает наш особь от большой поэзии, после того как его вовлекли в процесс.
Бутылку брать с собой смысла не имело — у несовершеннолетних сухой закон нами же установленный. Хотя после некоторых, мало кому известных событий, запрет на спиртное выглядел довольно глупо.
— Не попустительствовать же теперь его неокрепшим порокам, — фарисейски возмутился я, не признавая в педагогике не благовидную роль табу.
Развалившись в кресле, скрестив руки на груди, рыцарь от пера таращился в заоконную даль.
— Осмысление, — произнес я, подсаживаясь за стол и оглядывая заготовленную бумагу.
Амадеус отрешенно отозвался.
— И, да и нет…
Э, друг! Не ты первый кому такие дела пришлись по душе, — поставил я диагноз бардовской отстраненности, борясь с искушением отпустить сальность.
— О подвигах и славе? — деликатно прозвучал мой вопрос.
Бард отвлекся от мыслей, а возможно от волнующих воспоминаний, похлопал глазами, поморщил лоб и неожиданно попросил.
— Расскажите что-нибудь.
— Запросто! Истинная история про любовь! — с ходу начал я, до безобразия авторитетно заявив. — Будет тебе известно, только истинные истории про любовь становятся жертвами поэтов. Поэтому внемли! — повел я рассказ, сюжет которого навеян "Декамероном" Боккаччо и "Кентерберийскими рассказами" Чосера. — Дело сотворилось в пограничье. В Речном Выгребце. Почему это место так называют, поведаю в следующий раз, поскольку речь о другом. Жило там, да и по сию пору живет и здравствует, семейство баронов Флере. Но сказ пойдет не обо всей семье, а о дочери барона, Мелисате. Девице видной, красивой и своенравной. По пришествию срока, как водится от веку вечного, сосватали заочно упомянутую Мелисату за одного из папашиных да.а.а. альних соседей. За Бласа де Акара. Мужчину сурового, воинственного и уродливого, что горелый пень. Сосватать сосватали, помолвить помолвили и через некоторое время, как только Блас натешился воевать с горцами, отбыли всей фамилией и с несчастной Мелисатой из отчего дома в Горлат, край мрачный и нездоровый. Уж коли я человек, повидавший в мире много несправедливости и зла, утверждаю, что дева несчастна, то так оно и есть. В кортеже невесты находилась вся многочисленная баронская ближняя и дальняя родня, няньки, дядьки, кумовья, вассалы. Словом тьма народу, среди которого затесался некий Марко, безызвестный бард, один из многих воспитанников гильдии музыкантов. Был он симпатичен и весел нравом, ценил добрую шутку и хорошую компанию, потому и пришелся ко двору барона, любившего коротать время за чарой и в увеселении. Само собой в пути-дорожке и пересеклись линии жизни Марко и Мелисаты, простого барда и баронской дщери. И за то время, что кортеж пробыл в поездке, чувство Марко успело перерасти в любовь. Да не просто любовь, а страсть! Всепоглощающую и всепожирающую! Такую, перед которой рушатся условности обычаев и законы общества.