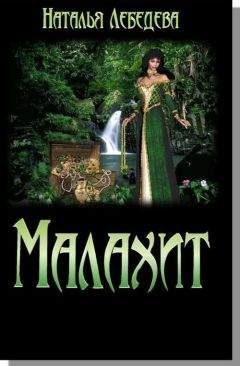Он видит Александрита и Аквамарина. Они в поле, за пределами боя, топчутся на месте на кинессийских жеребцах, тонконогих и таких быстрых, что догнать их не сможет и ветер. Но это не трусость: Павел понимает это, когда видит, как две крохотные детские фигурки, вдруг оказавшись там, где не стреляют, не колют и не рубят, в панике бегут к лесу, к болотам, туда, где можно заблудиться, утонуть, где на километры нет человеческого жилья, кроме разбитых Выселок. Александрит и Аквамарин ловят их, передают Авантюрину и начинают высматривать новых беглецов.
А прямо под окном разворачивается трагедия. Три ребенка стоят, прижавшись друг к другу, а к ним направляется один из солдат. Дуло его пистолета направлено прямо на них. Он хочет убивать или хочет использовать их, как живой щит… Вдруг перед ним возникает длинная фигура старого сумасшедшего Кремня. Он закрывает детей собой и получает пулю в грудь. Сделав последнее в жизни усилие, он падает не назад, а вперед, протягивает руку и вот уже из головы солдата торчит тонкое кременное лезвие.
Брилле Берилл, как всегда рассеянный и подслеповатый, стоит посреди двора и смотрит по сторонам. Он видит маленького мальчика, которому нужна помощь, но подойти к нему не успевает — оказывается на пути у бегущего к лесу солдата и получает сильнейший удар рукояткой пистолета в висок. Крохотные очки, сделанные из лучших в мире бериллов, падают в снег и остаются лежать там самым гордым и самым правильным надгробьем.
Минуты через три во дворе нет уже ни детей, ни вражеских солдат. Вадим бьет по лицу какого-то крестьянина, собирающегося поджечь усадьбу.
Павла находят и, пока несут на носилках в лагерь, докладывают: все дети живы, некоторые ранены, почти все до смерти перепуганы. Пленных двадцать пять человек, остальные убиты. Возможно, пять — десять человек смогли бежать.
Паша еле дышит — ответственность не по нему. Он не знает, правильно ли поступил, послушавшись Кабошона. Он винит себя за то, как все было неорганизованно. Он обвиняет себя за этот безмерный детский испуг. И чувства эти почти невыносимы.
К ночи ударил мороз. Мокрый снег, сотнями ног перемешанный с грязью и кровью, застыл, превратившись в глыбы красно-серого льда. И могло показаться, что это горная порода, в которой спрятаны до времени кристаллы прекрасных лалов…
Глава 10 Порванная цепочка
Из золотого ромба устремлялись вверх тонкие золотые пружинки. Они свивались в две струи, в два жгута, в два потока. От малейшего колебания воздуха пружинки начинали подрагивать, и казалось, будто золотые воды текут вверх и вниз…
Эту работу Золотка Берковский оставил себе — в память о том, как в последний раз проходил через портал. Правда, это был Речной Столб. Он не любил себе в этом признаваться, но в тот момент, когда начал рушиться малахитовый зал, он так перепугался, что переместился машинально. Юрий Палыч вылетел из Столба с такой силой, что едва не упал. Но мгновенно взял себя в руки. Перед ним лениво шумел, покачиваясь от летнего ветерка, ельник. Солдаты, стоящие на часах, смотрели недоуменно и вопросительно.
«А что? — подумал Юрий Палыч, — может быть, и не стоит возвращаться и смотреть, чем кончится вся эта заварушка? Может статься, что и ничем хорошим. Тогда я теряю почти все. А так у меня есть достаточное количество камней, плюс Золотко, минус солдаты, с которыми не надо будет делиться, если запереть их там…»
— Что уставились? — приподняв бровь, спросил он часовых. — У нас там каждый человек на счету. Я — в город, за подкреплением. Приказываю вам оставить пост и присоединиться к людям майора Веселова. Исполняйте. Портал сейчас нафиг никому не нужен. Там такое твориться…
Едва солдаты шагнули в портал, Берковский раздвинул лапы широкой ели и, пошарив рукой в густом слое хвои, нащупал ручку, за которую вытащил плоский армейский ящик. Пистолет и короткоствольный автомат оставил там, и взял третью лежащую там вещь, а точнее — устройство.
Прогремел взрыв, и Речной Столб исчез. Юрий Палыч походил среди каменных осколков, потопал ногой, словно пробовал землю на прочность, отодвинул в сторону обломки алтаря и, наконец, убедился в том, что нигде не осталось ни частички жемчужно-голубого сияния…
Теперь он каждый раз с трудом отрывал взгляд от золотой статуэтки. Еще труднее это было сделать сейчас, когда закатное солнце светило в незашторенное окно, и золотые струи казались красными и еще более живыми…
Солнце садилось за лес. Из окна кабинета Берковский видел высокие сосны и низкие мохнатые ели, густые кусты перед ними, а еще ближе — широкий заснеженный двор его усадьбы, где лежали пышные сугробы, залитые красноватым закатным светом.
Послышался детский смех, и Берковский увидел, как, утопая в сугробах, идут к лесу Анис и Золотко. Они всегда почему-то гуляли там, где не было тропинок. Почему?
Юрий Палыч перевез их в свой загородный дом недавно. В городе они казались несчастными, были скучны, быстро теряли интерес к жизни.
Казалось, серый слякотный ноябрь отражается на их лицах. Анис полнела, и ее красивое лицо становилось расплывчатым, черты его стирались. Она мало смеялась, почти не играла с дочерью и читала ей все реже и реже, много смотрела телевизор и ела, глядя в экран, а не в тарелку.
Золотко слонялась по квартире, изредка подсаживалась к матери и обнимала ее, но телевизор никогда не занимал ее внимания больше, чем на десять минут. Если еще месяц, даже две недели назад она создавала прекрасные печальные произведения, то сейчас это были просто золотые безделушки. Она старалась угодить Берковскому, поскольку он каждый раз напоминал, что иначе разлучит ее с матерью, но тоска и безразличие овладевали ей, как смертельно опасная болезнь.
В конце декабря Юрий Палыч перевез их на новое место. Анис вышла во двор, кутаясь в широкий пуховый платок, и долго смотрела на лес, на укрытые снегом верхушки елей. Подступили слезы, и она заплакала: место было похоже на то, где они с Латунью жили в первые, счастливые годы после свадьбы. Золотко испугано жалась к ней. Поместье Берковского поражало своими размерами, и отсюда, от крыльца, забор не был бы виден, даже если бы его не закрывали деревья. Дом тоже был очень красив, настоящая барская белокаменная усадьба, построенная по канонам архитектуры восемнадцатого века. Золотко начала оживать только от этого, здесь она чувствовала живую силу камня, дерева, металла — хотя ажурные решетки и кованные скульптуры, украшавшие дом, и казались ей грубоватыми.
Два сада — вишневый и яблоневый — старые, еще дореволюционные, вернули жизнь Анис. Она проводила здесь много времени, несмотря на то что ударили морозы.