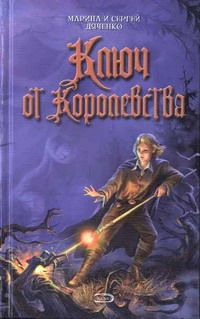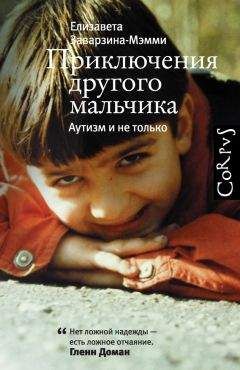Теперь он смотрел на меня удивленно.
– Маленький Эгерт, – прошептала я прочувственно. – Вот каким ты стал…
Он нахмурился, будто пытаясь что-то припомнить. Пробормотал нерешительно:
– Вы из Каваррена, что ли?
Милый мой мальчик, подумала я с долей нежности. Как с тобой легко. Из Каваррена…
– Из Каваррена! – задребезжала я воодушевлено. – Вот где он рос, родитель твой, на моих глазах рос, без штанишков бегал, пешком под стол ходил…
Он нахмурился – «без штанишков» было, пожалуй, слишком смело.
– Маленький Эгерт! – я тряслась от переполнявших меня чувств. – Да знаешь ли ты, юноша, что этого самого твоего родителя я и на коленках тетешкала, и головку беленькую гладила, и сопли подтирала, а он, сорванец, все норовил леденец с комода стянуть…
Парень отшатнулся, тараща глаза; тем временем мое сентиментальное старушечье сердце заходилось в сладких воспоминаниях:
– Глазки-то шустрые… Через забор к нам шмыгнет, бывало, и давай яблоки воровать…
Он сглотнул – шея дернулась – но сказать так ничего и не смог.
– А старик-то отец мой, покойничек, хворостину однажды взял…
– Что вы мелете, – выдавил он наконец. – Какой… покойник?
У него, бедного, все перемешалось в голове. Я наседала:
– …А как подрос наш орелик… Годков двенадцать было ему… Убегу, говорит, в актеры, лицедеить буду на сцене… В труппе господина Флобастера… Тут уж его батенька, дедушка твой, хворостину как взя…
– Вы, наверное, сумасшедшая, – осторожно предположил он. – Или перепутали имя.
Он пятился, и при этом все быстрее и быстрее, досадуя, наверное, что ему попалась на редкость прыткая и ловкая старуха:
– Я?! Помилуй, деточка, я уж восемьдесят лет как все помню! Актриса его сманила, и ведь так себе актриска, ни рожи ни кожи…
Он побагровел, резко повернулся и пошел прочь; я нагнала его и побежала рядом; по дороге попалась лужа, и я в азарте перемахнула так, что по поверхности воды пробежала рябь. Он замедлил шаг и подозрительно на меня покосился. Чтобы загладить оплошность, я закряхтела с удвоенной силой; седые патлы забились мне в рот:
– Тьфу… Сынок… Тьфу… Не беги… пожалей… старуху… Актриска то… паршивая была, это я тебе гово…
С неба обрушился грохот колес. Прямо перед моим лицом оказался карий лошадиный глаз в венчике из длинных ресниц; еще мгновение – и круглые мохнатые копыта втоптали бы меня в мостовую. Заорал кучер, в потоке его слов я разобрала только «старую суку»; обжигающее конское дыхание отодвинулось – и карета, огромная, золоченная, пузатая как боров карета прокатила мимо, окатив меня грязью, ослепив мельканием спиц, обругав черным языком ливрейного лакея, громоздившегося на запятках…
…Моя брань догнала его в спину; он обернулся, и я еще успела увидеть, как вытянулось и побагровело лакейское лицо. Карета давно скрылась за углом, а я стояла посреди улицы и орала, как базарная торговка, ругалась сквозь навернувшиеся на глаза слезы, бранилась вслед, пытаясь криком изгнать запоздалый ужас – еще волосок, и переехали бы…
Потом я обнаружила, что стою с непокрытой головой, что волосы растрепались у меня по плечам, а замечательный плащ из фарса о Трире-простаке зажат у меня в опущенной руке и купает в луже свои седые космы.
Мой недавний собеседник стоял чуть поодаль, и на лице его медленно сменяли друг друга всякие противоречивые чувства. Очевидно, превращение согбенной старухи в молодую и очень скандальную особу произвело на парня исключительное впечатление.
– Посетите представление, внучек, – сказала я ему сухо. – Труппа господина Флобастера, самые смешные на свете фарсы…
Развернулась и ушла, волоча плащ по мостовой и проклиная свой глупый, неожиданный, абсолютно бесполезный авантюризм.
Изрядно поплутав, я вернулась к месту нашей стоянки, получила выволочку от Флобастера и выстирала плащ в кадушке с ледяной водой. Жена нашего хозяина – веселая молодуха – вертелась вокруг да около, ей было любопытно поглазеть на бродячих комедиантов.
– Милейшая, – обратилась я к ней, – вы слыхали когда-нибудь о господине по имени Эгерт Солль?
Она чуть не подскочила:
– Полковник Солль? Как же, это, милая, герой… Это, милая, если б не он, так и город спалили бы, уж лет двенадцать или больше, как наскок этот был… Ты молодая, может, не помнишь, но уж слыхала, наверное, кто их знает, откуда набежали, как саранча, орда громадная, бешеные, голодные и по-нашему не понимали… Резали и старых, и малых. Осада была, бургомистр-то растерялся, начальник стражи убег… Полковник Солль, долгих лет ему, тогда еще не полковник… Вот уж кто боец, так это боец, стражу собрал, людей собрал, муж мой ходил, вот… Отбили извергов этих, со стен поскидывали, кого в лес загнали, кого в реке потопили… Ну, и своих положили – меньше, чем в Мор, а все поредел город… А если б не полковник Солль, так не знаю, девонька, что было бы, сожгли бы, пограбили, перебили да и все…
Я поблагодарила разговорчивую женщину. Плащ висел на ветхой веревке, заливая землю мыльными потоками.
Поистине, стыд – чудовище с горящими, как угли… ушами.
* * *
Кабинет назывался кабинетом декана Луаяна, хоть сам декан умер двадцать лет назад и никто из теперешних студентов никогда его не видел. Декана помнил кое-кто из профессоров; господин ректор, немощный старец, любил прервать лекцию ради рассказа о замечательном человеке, когда-то поднимавшемся на эту славную кафедру. Впрочем, самой живой памятью о декане Луаяне была его дочь, госпожа Тория Солль, которая царствовала в библиотеке, читала лекции и вершила научный труд в старом кабинете отца. Впервые в истории столь замечательного учебного заведения в святая святых науки была допущена женщина; Тория считалась достопримечательностью, поскольку была, ко всему прочему, безукоризненно красива и счастлива в браке, а мужем ее был герой осады, полковник Солль.
…Эгерт почтительно стукнул в тяжелую, до мелочей знакомую дверь. Тория восседала за огромным столом отца, простиравшемся перед ней, как усеянное фолиантами поле боя. С двух деревянных кресел с высокими спинками вскочили навстречу Соллю двое достаточно молодых еще профессоров. После церемонного поклона оба, заизвинявшись, сейчас же сослались на неотложные дела и шмыгнули прочь.
– Ты мне разогнал ученый совет, – сказала Тория.
Эгерт усмехнулся широко и плотоядно – будто сама мысль о бегстве ученых мужей доставила ему удовольствие. Гордо окинув взглядом опустевшую комнату, он плотно прикрыл за беглецами входную дверь.
– Что-то случилось? – неуверенно предположила Тория.
Эгерт двинулся через весь кабинет – так крадется барс, узревший в зарослях пятнистую спинку лани. Тория на всякий случай отступила под защиту письменного стола: