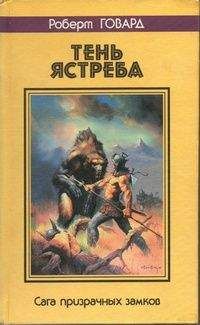Затем мой простодушный Спайк повернулся спиной к своему поверженному противнику и, улыбаясь и раскланиваясь, направился к кана-там. Он раскрыл было рот, чтобы что-то сказать своей девушке, но в это время Монк, успевший к этому моменту очухаться, правой рукой почти от пола заехал Спайку прямо под оскалившуюся в улыбке челюсть. Рефери мог считать хоть до миллиона.
Позже, сидя на полу ринга, Спайк сказал мне:
— Знаешь, Стив, связываться с девушками — дохлый номер! Для меня они, пожалуй, больше не существуют.
— Ну, если ты это понял, тебя не зря проучили, — сказал я.
* * *
На лужайке перед библиотекой мерцали четыре огонька. Мы вчетвером сидели и курили. Клайд — турецкую сигарету, Трутт водяную трубку, Гарольд пенковую, а я самокрутку из соломы.
На небе блестели звезды. Откуда-то из неясной темной бездны доносился печальный звук падающих капель, какая-то захудалая модернистская вошь покинула свой мерзкий водопроводный кран. Меня затрясло от отвращения.
— Черт! — вырвалось вдруг у Клайда. Я вздрогнул.
— Шшш! — пришлось утихомирить его. — Вспомни о читателях «Джанто». Что подумают эти критиканы?
— Я забыл, — покраснел Клайд. — Но, честно говоря, по-моему, они…
Я помотал головой.
— Нет.
Он кивнул, сплюнул на траву, и та загорелась.
Я затушил пожар и принялся оплакивать горестную судьбу Ирландии.
— А хорошо бы пройтись по облакам, — пробормотал Клайд.
— Чепуха, — возразил Гарольд. — Жаль, что я не миллионер.
Трутт нахмурился.
— Не в деньгах счастье.
Гарольд стоял на своем.
— Будь я богат, я был бы счастлив. Я бы жил в Южных Морях, был бы все время пьян и ухаживал за прекрасными сиренами с островов теплых океанов.
— Ты обречен на успех, — сказал Клайд, покачав головой. — С твоей практичностью ты станешь вторым сэром Филиппом Гиббсом.
Трутт дунул на свою трубку.
Я монотонно, ни разу не остановившись, перечислил по памяти семьдесят пять книг, пропавших из библиотеки.
А Клайд размышлял:
— В чем прелесть жизни?
— В вине, женщинах и песнях, — сказал Гарольд.
— Тише, — зашипел Трутт. — Не двигайтесь, если вам дорога жизнь!
Огромная призрачная фигура выскользнула из кустов и, громко фыркая, остановилась.
— Ни слова, если вам не надоело жить, — пробормотал Клайд, обливаясь холодным потом. — Это привидение из конюшни!
Я вынул четки, пересчитал бусины; забыл, сколько их, и пересчитал снова, чтобы быть уверенным. Привидение удалилось.
— Черт бы побрал этого Йозефа Гергерсхаймера, — сказал Гарольд, отпивая вина и зажигая сигару с обрезанными концами. — Вечно болтает о тщетности бытия. Эх, будь у меня его деньги…
Трутт кивнул; глаза его загорелись диким блеском.
— Была в Эль-Пасо девчонка, — сказал Клайд.
Гарольд, Трутт и Клайд принялись жадно, с бульканьем поглощать эликсир. Я с содроганием думал о критиках из «Джанто», чьи советы всегда были для меня путеводной звездой. Они…
— Основа нации, — докончил Клайд.
— Слушай, — сказал Гарольд, — и запоминай, «Множество жизней»…
Он продекламировал семь стихотворений Эдди Геста.
— Слишком пессимистично, — заметил Трутт.
— А ты аскет, — ответил ему Гарольд. — Когда я буду переписывать словарь, я это слово не включу.
— А я не включу слово «язычник», — проворчал Клайд.
— Безумцы! — изрек вдруг Трутт.
— Кто безумцы? — спросили мы хором.
— Те, кто будет читать эту статью! — проревел он, разразившись ужасающим хохотом.
А я раскачивался на ветке дерева и оплакивал горестную судьбу Болгарии.
Проведя большую часть жизни в дебрях быстро растущих нефтяных городов, я неплохо знал, как выглядит издерганное, искалеченное человечество. Чаще, чем хотелось, я видел людей страдающих, истекающих кровью и умирающих от аварий на производстве, ударов ножа, огнестрельных ран и других несчастных случаев. И все-таки я считаю, больнее всего смотреть на кошку-калеку, хромающую по тротуару и волочащую за собой сломанную ногу, которая висит только на куске кожи. На этой раздробленной культе животное пытается идти, время от времени издавая тихий стон, лишь отдаленно напоминающий знакомое всем кошачье мяуканье.
Невероятно мучительно видеть страдающее существо; последняя степень отчаяния, без малейшей надежды на осмысление происшедшего самим животным, делает это зрелище более ужасным и трагическим, чем вид раненого человека. В мучительном кошачьем крике, кажется, сосредоточена вся слепая бездонная боль черных космических дыр. Это крик из джунглей, смертельный вой несказанно далекого Прошлого, забытого и почему-то отрицаемого человечеством, Прошлого, лежащего в сонной тени самых дальних уголков подсознания, но готового пробудиться душераздирающим криком животного.
Не только в мучениях и смерти кот заставляет нас вспомнить это жестокое Прошлое. В гневных криках и криках любви, в плавном скольжении по траве, в голоде, бесстыдно горящем в полузакрытых глазах, во всех его движениях и действиях прослеживается его родство с дикими животными, его неукротимость и презрение к человеку.
Кот ниже собаки, но, тем не менее, больше похож на человеческое существо. Потому что он тщеславен, но подобострастен, прожорлив, но привередлив, ленив, похотлив и эгоистичен. Последнее свойство вообще присуще всему семейству кошачьих. Он необычайно эгоистичен. В любви к своей особе он искренен и бесстыден.
Ничего не давая взамен, он требует все, и эти требования звучат в ноющем, голодном, жалобном вое, словно сотрясающемся от жалости к себе и обвиняющем весь мир в вероломстве и нарушении договора. Его взгляд подозрителен и жаден, этот взгляд буравит насквозь. Его манеры и надменны, и уничижительны. Он выгибает спину, трется о ногу человека, жалобно напевая какую-то скорбную песнь, в то время как глаза его горят угрозой, а когти судорожно выскальзывают из своих мягких ножен.
Он неумерен в своих требованиях и ничем не благодарит за щедрость. Его единственная религия — неколебимая вера в божественные права кошек. Собака существует только для человека, человек существует только для кошек. Кот, сосредоточенный лишь на самом себе, считает себя центром вселенной. В его узком черепе нет места более сложным чувствам.
Выньте тонущего котенка из сточной канавы, уложите его спать на мягкой подушке и вдоволь кормите сливками. Дайте ему кров, балуйте и нежьте его всю его бесполезную и сконцентрированную на самом себе жизнь. Что вы получите взамен? Он позволит вам гладить свою пушистую шерстку и будет снисходительно мурлыкать, словно проявляя к вам великую благосклонность. Этим его благодарность и исчерпывается. Ваш дом может гореть у вас над головой, к вам могут ворваться бандиты, изнасиловать вашу жену, ударить по голове дядюшку Теобальда, а вас подвесить за пальцы, чтобы выпытать, где вы храните свои сокровища. Среднестатистическая собака умерла бы, защищая даже дядюшку Теобальда.