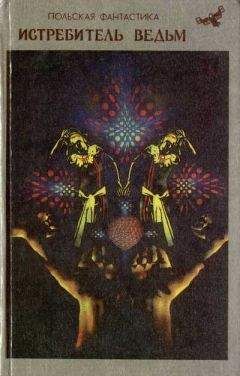Так или почти так окончил Раскольников свою речь, часто прерывавшуюся восклицаниями публики, слушавшей, впрочем, очень внимательно. Но, несмотря на все перерывы, он проговорил резко, спокойно, точно, ясно, твердо. Его резкий голос, его убежденный тон и строгое лицо произвели на всех чрезвычайный эффект.
– Так, так, это так! – в восторге подтверждал Лебезятников. – Это должно быть так, потому что он именно спрашивал меня, как только вошла к нам в комнату Софья Семеновна, «тут ли вы? Не видал ли я вас в числе гостей Катерины Ивановны?» Он отозвал меня для этого к окну и там потихоньку спросил. Стало быть, ему непременно надо было, чтобы тут были вы! Это так, это все так!
Лужин молчал и презрительно улыбался. Впрочем, он был очень бледен. Казалось, что он обдумывал, как бы ему вывернуться. Может быть, он бы с удовольствием бросил все и ушел, но в настоящую минуту это было почти невозможно; это значило прямо сознаться в справедливости взводимых на него обвинений и в том, что он действительно оклеветал Софью Семеновну. К тому же и публика, и без того уже подпившая, слишком волновалась. Провиантский, хотя, впрочем, и не все понимавший, кричал больше всех и предлагал некоторые весьма неприятные для Лужина меры. Но были и не пьяные; сошлись и собрались изо всех комнат. Все три полячка ужасно горячились и кричали ему беспрестанно: «пане лайдак! [66]», причем бормотали еще какие-то угрозы по-польски. Соня слушала с напряжением, но как будто тоже не все понимала, точно просыпалась от обморока. Она только не спускала своих глаз с Раскольникова, чувствуя, что в нем вся ее защита. Катерина Ивановна трудно и хрипло дышала и была, казалось, в страшном изнеможении. Всех глупее стояла Амалия Ивановна, разинув рот и ровно ничего не смысля. Она только видела, что Петр Петрович как-то попался. Раскольников попросил было опять говорить, но ему уже не дали докончить: все кричали и теснились около Лужина с ругательствами и угрозами. Но Петр Петрович не струсил. Видя, что уже дело по обвинению Сони вполне проиграно, он прямо прибегнул к наглости.
– Позвольте, господа, позвольте; не теснитесь, дайте пройти! – говорил он, пробираясь сквозь толпу, – и сделайте одолжение, не угрожайте; уверяю вас, что ничего не будет, ничего не сделаете, не робкого десятка-с, а, напротив, вы же, господа, ответите, что насилием прикрыли уголовное дело. Воровка более нежели изобличена, и я буду преследовать-с. В суде не так слепы, и… не пьяны-с, и не поверят двум отъявленным безбожникам, возмутителям и вольнодумцам, обвиняющим меня, из личной мести, в чем сами они, по глупости своей, сознаются… Да-с, позвольте-с!
– Чтобы тотчас же духу вашего не было в моей комнате; извольте съезжать, и все между нами кончено! И как подумаю, что я же из кожи выбивался, ему излагал… целые две недели!..
– Да ведь я вам и сам, Андрей Семенович, давеча сказал, что съезжаю, когда вы еще меня удерживали; теперь же прибавлю только, что вы дурак-с. Желаю вам вылечить ваш ум и ваши подслепые глаза. Позвольте же, господа-с!
Он протеснился; но провиантскому не хотелось так легко его выпустить, с одними только ругательствами: он схватил со стола стакан, размахнулся и пустил его в Петра Петровича; но стакан полетел прямо в Амалию Ивановну. Она взвизгнула, а провиантский, потеряв от размаху равновесие, тяжело повалился под стол. Петр Петрович прошел в свою комнату, и через полчаса его уже не было в доме. Соня, робкая от природы, и прежде знала, что ее легче погубить, чем кого бы то ни было, а уж обидеть ее всякий мог почти безнаказанно. Но все-таки, до самой этой минуты, ей казалось, что можно как-нибудь избегнуть беды – осторожностию, кротостию, покорностию перед всем и каждым. Разочарование ее было слишком тяжело. Она, конечно, с терпением и почти безропотно могла все перенести – даже это. Но в первую минуту уж слишком тяжело стало. Несмотря на свое торжество и на свое оправдание, – когда прошел первый испуг и первый столбняк, когда она поняла и сообразила все ясно, – чувство беспомощности и обиды мучительно стеснило ей сердце. С ней началась истерика. Наконец, не выдержав, она бросилась вон из комнаты и побежала домой. Это было почти сейчас по уходе Лужина. Амалия Ивановна, когда в нее, при громком смехе присутствовавших, попал стакан, тоже не выдержала в чужом пиру похмелья. С визгом, как бешеная, кинулась она к Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватою:
– Долой с квартир! Сейчас! Марш! – и с этими словами начала хватать все, что ни попадалось ей под руку из вещей Катерины Ивановны, и скидывать на пол. Почти и без того убитая, чуть не в обмороке, задыхавшаяся, бледная, Катерина Ивановна вскочила с постели (на которую упала было в изнеможении) и бросилась на Амалию Ивановну. Но борьба была слишком неравна; та отпихнула ее, как перышко.
– Как! Мало того, что безбожно оклеветали, – эта тварь на меня же! Как! В день похорон мужа гонят с квартиры после моего хлеба-соли, на улицу, с сиротами! Да куда я пойду! – вопила, рыдая и задыхаясь, бедная женщина. – Господи! – закричала вдруг она, засверкав глазами, – неужели ж нет справедливости! Кого ж тебе защищать, коль не нас, сирот? А вот увидим! Есть на свете суд и правда, есть, я сыщу! Сейчас, подожди, безбожная тварь! Полечка, оставайся с детьми, я ворочусь. Ждите меня, хоть на улице! Увидим, есть ли на свете правда?
И, накинув на голову тот самый зеленый драдедамовый платок, о котором упоминал в своем рассказе покойный Мармеладов, Катерина Ивановна протеснилась сквозь беспорядочную и пьяную толпу жильцов, все еще толпившихся в комнате, и с воплем и со слезами выбежала на улицу – с неопределенною целью где-то сейчас, немедленно и во что бы то ни стало найти справедливость. Полечка в страхе забилась с детьми в угол на сундук, где, обняв обоих маленьких, вся дрожа, стала ожидать прихода матери. Амалия Ивановна металась по комнате, визжала, причитала, швыряла все, что ни попадалось ей, на пол и буянила. Жильцы горланили кто в лес, кто по дрова – иные договаривали, что умели, о случившемся событии; другие ссорились и ругались; иные затянули песни…
«А теперь пора и мне! – подумал Раскольников. – Ну-тка, Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить!»
И он отправился на квартиру Сони.
IV
Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужина, несмотря на то, что сам носил столько собственного ужаса и страдания в душе. Но, выстрадав столько утром, он точно рад был случаю переменить свои впечатления, становившиеся невыносимыми, не говоря уже о том, насколько личного и сердечного заключалось в стремлении его заступиться за Соню. Кроме того, у него было в виду и страшно тревожило его, особенно минутами, предстоящее свидание с Соней: он должен был объявить ей, кто убил Лизавету, и предчувствовал себе страшное мучение, и точно отмахивался от него руками. И потому, когда он воскликнул, выходя от Катерины Ивановны: «Ну, что вы скажете теперь, Софья Семеновна?», то, очевидно, находился еще в каком-то внешне возбужденном состоянии бодрости, вызова и недавней победы над Лужиным. Но странно случилось с ним. Когда он дошел до квартиры Капернаумова, то почувствовал в себе внезапное обессиление и страх. В раздумье остановился он перед дверью с странным вопросом: «Надо ли сказывать, кто убил Лизавету?» Вопрос был странный, потому что он вдруг, в то же время, почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время, невозможно. Он еще не знал, почему невозможно: он только почувствовал это, и это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостию почти придавило его. Чтоб уже не рассуждать и не мучиться, он быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. Она сидела, облокотясь на столик и закрыв лицо руками, но, увидев Раскольникова, поскорей встала и пошла к нему навстречу, точно ждала его.
– Что бы со мной без вас-то было! – быстро проговорила она, сойдясь с ним среди комнаты. Очевидно, ей только это и хотелось поскорей сказать ему. Затем и ждала.