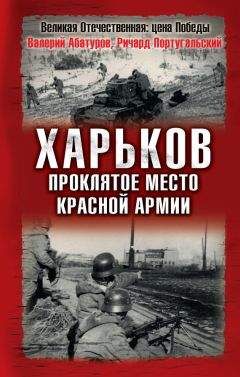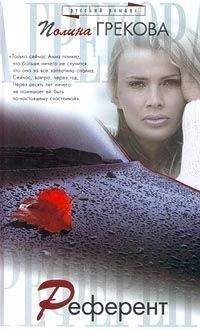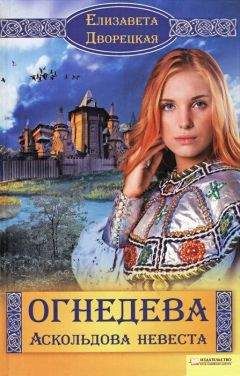Дивляна молчала, пытаясь осмыслить его слова. Для нее князь, племя и земля были связаны так же тесно, как человек и его тень, как тело и его кровь, и она не могла в воображении разделить их, понять, как князь может перемещаться с места на место, от одного народа к другому, да еще и переносить благословение богов… Ведь наоборот, и Дир, и сам Ольг, чтобы получить признание законности своей власти, должны были породниться с племенем, взяв в жены женщину княжеского рода, — а в ее лице саму землю полян. От земли князь получает благословение и право на власть, а без земли откуда же оно возьмется?
Нет, кто-то говорил ей… В памяти мелькали смутные обрывочные воспоминания: не то Аскольд, не то Чтислава говорили, что у христианских народов князь получает власть от единого для всех народов бога и тогда, конечно, ничто не мешает ему перемещаться…
Но все это было слишком сложно, и мысли Дивляны скользнули в более привычное русло. На нижнем Волхове и среднем Днепре теперь живут и правят семьи, тесно связанные родством: новый киевский князь берет в жены Деву Альдогу, а муж его собственной сестры, как ей рассказывали, обосновался в Ладоге и деятельно помогает ладожанам подчинить себе всю окрестную чудь. Простая женщина переходит из рода в род, знатная женщина — из своего племени в чужое, как и она сама четыре года назад. Так, может быть, Яромиле с ее благословением удастся то, что не удалось Дивляне, — стать матерью не одного племени, а сразу многих?
— Но как же тогда ты собирался… — Она вспомнила его недавнее предложение взять в жены ее саму. — Я думала, Яромила не сможет приехать сюда к тебе, потому я… А если ты уверен, что она сможет…
— Я полагал, что вы, умные женщины, наставляемые богами, и к тому же родные сестры, сами решите между собой, как все устроить. — Одд спокойно пожал плечами. — Иметь двух жен, сестер между собой, не только не противоречит самым древним законам, но, напротив того, всячески ими приветствуется. Йармиль могла бы оставаться в Альдейгье, и там я навещал бы ее время от времени. Или она могла бы приехать сюда и мы жили бы все вместе.
— Но которая из нас была бы княгиней? Она — старшая, но я — вдова Аскольда.
— Какая разница? — Одд поднял брови. — У моего покровителя, бога Высокого Пламени Халоги, две дочери — Торгерд и Ирпе, если ты помнишь, и обе они — богини. Когда две женщины равно знатны и прекрасны, они обе могут быть королевами у одного конунга, а все остальные пусть завидуют ему вдвое сильнее! — Одд рассмеялся, и в этом смехе явственно сквозило сожаление. — Скажу честно, мне очень жаль, что из этого ничего не вышло. Но я не могу допустить, чтобы сага об Одде Хельги, конунге Кенугарда, начиналась с рассказа о нарушении слова.
— Это не начало, — вздохнула Дивляна, — это уже середина. И до конца еще далеко.
— Ты тоже немного пророчица?
— И, как все вещуньи, знаю про всех, кроме себя.
Вся дружина во главе с Белотуром уже ждала ее возле лодий. Тропа Взвоза на всем протяжении, весь Подол были заняты народом, пришедшим проститься с Огнедевой, — население Киева снова увеличилось, когда прошел слух, что княгиня вернулась и теперь тут безопасно. Если бы не хирдманы, то худо бы ей пришлось — люди стремились хотя бы прикоснуться к ней и могли бы в драке разорвать на части пусть не саму княгиню, но хотя бы ее платье, кабы их не оттесняли щитами и древками копий. Женщины вопили, даже из мужчин многие утирали слезы рукавами. И Дивляна плакала, едва веря, что действительно расстается навсегда с этим удивительным местом, с этими горами, зависшими посередине между землей и небом.
— Не горюйте по мне — скоро сестра моя к вам приедет, старшая, — сквозь слезы утешала она людей. — Она лучше меня — умнее, красивее, удачливее. Полюбите ее, пожалуйста. Уж я-то знаю, каково с домом навек прощаться и в чужой земле корни пускать.
Но в душе она понимала, что Яромиле будет гораздо легче. Ведь ей предстояло ехать в чужую землю не к чужому человеку, а к отцу своего ребенка, к тому мужчине, которого она сама выбрала и которому уже отдала свою любовь — раз и навсегда.
Наконец Одду наскучили вопли вокруг и он, взяв Дивляну за руку, подвел ее к лодье, а там Белотур помог ей перебраться внутрь и устроиться вместе с детьми. Елинь Святославна в последний раз обняла сперва Дивляну, потом внучку, потом сына — и лодью столкнули в воду. Гребцы взялись за весла, и берег, полный кричащего народа, постепенно начал отодвигаться. Подол оставался позади, Дивляна уже не различала лиц, — правда, она вообще мало что видела от слез. И только поняв, что действительно уезжает навсегда, постаралась осушить глаза, чтобы в последний раз взглянуть на все это — величавые зеленые горы, тропинки на склонах, белые пятна мазаных изб, частокол поверх вала на вершине… Закончилась та жизнь, ради которой ее привезли сюда. Что же теперь? Она не знала, но душой стремилась домой, в Ладогу, будто в материнскую утробу. А там, кто знает, может, ей удастся родиться заново, чтобы начать новую, более счастливую жизнь?
Ехали вверх по течению — сперва по Днепру, затем по Сожу, и потому довольно медленно. Для ночлега Белотур выбирал населенные места, чтобы детей и женщин можно было устроить в теплых избах с печами. Помня, с какими трудностями пробирались в Киев, Дивляна ожидала от долгой дороги всяческих бед, но, тем не менее, приободрилась. Тому много способствовало присутствие Белотура — рядом с ним она чувствовала себя защищенной и сумела наконец немного расслабиться, выпустить на волю душу, которую уже много месяцев будто держала в кулаке. Белотур обходился с ней по-родственному ласково и заботливо, и только его нежный и грустный взгляд порой напоминал о прошлом. Дивляна тоже смотрела на него как на брата, и это получалось у нее гораздо лучше, чем четыре года назад, когда он же вез ее в обратном направлении, из Ладоги в Киев, чтобы отдать в жены своему брату Аскольду. Прежде ей хотелось любить его, но теперь, лишившись мужа, Дивляна была слишком измучена страхами и тревогами, чтобы думать о любви. Ведь что, как не любовь вопреки рассудку, ввергла ее в эти несчастья!
— Несчастливая я, — сказала она Белотуру однажды. — Кто меня пожелает, тому я одно горе приношу.
Она подумала о Вольге, потом об Аскольде, потом даже о Мстиславе, который тоже ей на что-то такое намекал… И спасибо Макоши, что Белотуру она тогда не досталась, — хорошего человека жалко…
— Я бы не побоялся, — ответил он, глядя на нее с решимостью и тоской по невозможному. — Я только тогда и жить начал, как тебя узнал. Но кабы обо мне одном речь шла… У меня ведь теперь целое племя на руках: тесть старик, ног не таскает, Ратеня — вчерашний отрок, с одной стороны савары и хазары опять дани хотят, с другой — Станила, да и что с Киевом будет, одни боги весть.