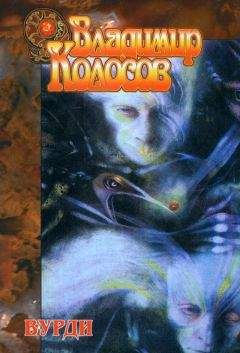В теплую нору.
Смешные, глупые.
Так было до тех пор, пока…
Она сладко потянулась.
Это произошло совсем недавно, в оттепель: волчишка был голоден, и она голодна, но пустые животы лишь сильнее распаляли то сладостно-тягучее чувство, которое заставило ее прекратить обычную игру. Вместо того чтобы лишь отхватить клок шерсти, она впилась зубами в волчий бок, зло стиснула челюсти, ощутив, как брызнула из-под кожи волчья кровь. Р-р-р! — волчишка взвыл от неожиданности, отскочил, но тут же бросился на обидчицу с таким остервенением, что она испугалась. Оскалилась, угрожающе зарычала: не подходи. Но это вовсе не остановило молодого волка. Он налетел на нее всей тяжестью своего тощего тела, сбил в снег, властно вцепился в ухо желтоватыми клыками. Он рычал и рвал ее ухо. Мял своими неуклюжими лапищами беззащитный живот. Катал по ледяному насту, как месячного щенка. Он причинял боль. И — о чудо! — ей нравилась эта боль. Р-р-р — страх вдруг оставил поверженную; она перестала рычать, кусаться, отталкивать лапами пахнущее потом и снежной пылью тело. Почувствовала себя беспомощной и слабой. А потом…
Она помнила лишь яркую вспышку в голове, хоровод солнц в раскалившемся докрасна небе, чей-то отчаянный визг, который метался в горле кровавым комком, — ее визг, ее плач, ее стон; помнила слюнявую морду волчишки, который вдруг оставил обмякшее тело в покое, замотал лохматой башкой, зачихал, зафыркал… Она попыталась подняться, но лапы не слушались. Она зарычала, призывая мучителя не оставлять ее… Тщетно. Волчишка, поджав хвост, жалко засеменил прочь…
Так было.
Ей едва хватило сил вырыть в обледенелом насте теплую лунку, упасть в нее. Положить голову на лапы…
Не прошло и месяца, как она почувствовала — творится что-то странное. Сначала изменились запахи.
Теплой норы. Леса. Даже сбившихся на зиму в стаю волков. Даже волчицы-матери, от которой она теперь старалась держаться подальше, и утром, когда старая волчица возвращалась с охоты, молодая покидала нору и уходила в лес. Но и в лесу она не чувствовала себя прежней. Лес казался чужим. Каждое дерево таило угрозу. Каждый куст мнился притаившимся зверем — большим, сильным, — она еще никогда не чувствовала себя такой беспомощной и жалкой в этом лесу…
Потом изменилась она сама.
Ее лапы, в которых уже не было прежней упругости мышц. Ее голова, которая иногда кружилась так, что приходилось ложиться в снег и пережидать до тех пор, пока не перестанет качаться под непослушными лапами земля. Ее поджарое серое тело, которое раньше с легкостью преодолевало любые расстояния, а теперь уставало даже после небольшой пробежки по рыхлому снегу…
Она стала ворчливой и злой. Она не подпускала к себе никого из стаи, и однажды, когда прежний ее мучитель вдруг сунулся к ней, она без предупреждения вонзила клыки в его ухо и едва не оторвала его…
Потом изменилась стая.
— Дайте мне нож, — попросила Таисья. Она дрожала от холода. И голос ее дрожал. Но все, кто стоял у костра, видели странный блеск ее глаз, хитрую ухмылку на губах…
Люди зашумели.
Они заговорили все разом, даже дети вдруг испуганно заверещали за спинами взрослых. Аринка заплакала. Сыновья Дрона, переглянувшись, поспешили пробраться поближе к отцу. Райнус дернул сестру за косу:
— Плакса.
Утер рукавицей влажные глаза.
— А сам-то… — буркнула девочка и, уже не сдерживаясь, сорвалась в полный голос: — К мамке хо-очу-у!
— Цыц! Нельзя к мамке. Сказала же — гулять!
— Я боюсь, — всхлипнула Аринка, прижимаясь к брату.
— Не смотри, — сказал Райнус, заметив, что девочка не сводит взгляда со странной сгорбленной фигуры Лая, которая все меньше походила на человека… Если бы не обвисший полушубок, не сползшая набок с огромной лохматой головы шапка, то…
— Он повелитель? — Аринка с надеждой взглянула на брата.
— Не знаю, — неуверенно пробормотал Райнус и, заметив, что девочка, наклонившись, зачерпнула пригоршню снега, поднесла ко рту, добавил: — Здесь грязный, не ешь.
— Я пить хочу, — капризно сказала Аринка.
— Дура! — неуверенно сказал Райнус и облизнул пересохшие губы — в самом деле, отчего так хочется пить?
Потом изменилась стая.
Волки.
Она заметила это не сразу, тем более что и сама сторонилась их. Но однажды голод взял свое, и она вышла на охоту со всеми.
Загоняли матерого лосяка.
Бежали не быстро, может быть, поэтому у нее хватило сил не отстать.
Лосяк был упрямый, к тому ж в самом начале охоты уж успел поднять на рога чересчур поспешившего волчишку, смерть которого заставила стаю набраться терпения и отступить.
Однако продержался матерый недолго.
Выгнав лосяка на редколесье, волки набросились всем скопом, и спустя мгновение он рухнул в снег.
Мяса ей не досталось.
Когда же она попыталась подобраться к разрываемому на части телу, сразу несколько волков развернулось к ней, и, увидев их оскаленные морды, она поняла — и эта охота, и все последующие уже не для нее…
Нож ей кинул Гилд.
Таисья ловко поймала его на лету.
Взглянула на охотника:
— Спасибо.
Тот пожал плечами. Отвернулся.
«Знает, — поняла женщина, — знает все».
Она наклонилась над мужем. Услышала, как взвизгнула и запричитала Настасья:
— Да что же это такое! На мертвого! С ножом!
— А тебе небось живого подавай? — усмехнулась женщина, не спуская глаз с удивленного лица Тисса. Что ж, теперь пришла очередь удивляться другим. Если, конечно, еще не застыла в жилах мужа пьянящая, колдовская, хмельная влага — кровь.
— Что, испугалась? — услышала она презрительный голос Гилда.
Ударила ножом в широкую грудь. Облизнулась, предвкушая тот сладостный миг, когда…
О! На сей раз она будет не одна.
Не только с маленьким вурденышем, который так похож на…
Что это?
Таисья моргнула, не веря своим глазам.
Никакой крови не было.
Даже раны на его груди, куда, казалось, только что вонзился нож, тоже не было. Даже царапины, даже намека на нее. И клинок был все так же чист, холоден и остер.
Не может этого быть!
Она подняла голову:
— Гилд?!
Волчья маска охотника задумчиво смотрела на алые всполохи огня. Сейчас их было трое в этом мире. Только трое. Она, Таисья. Все уже знающий Гилд. Мертвый муж…
И…
Нет, четверо — еще маленькая девочка, звереныш, которая спала, свернувшись калачиком под теплым одеялом. Укрытая с головой, чтобы никто не увидел, никто до поры до времени не потревожил ее сна.