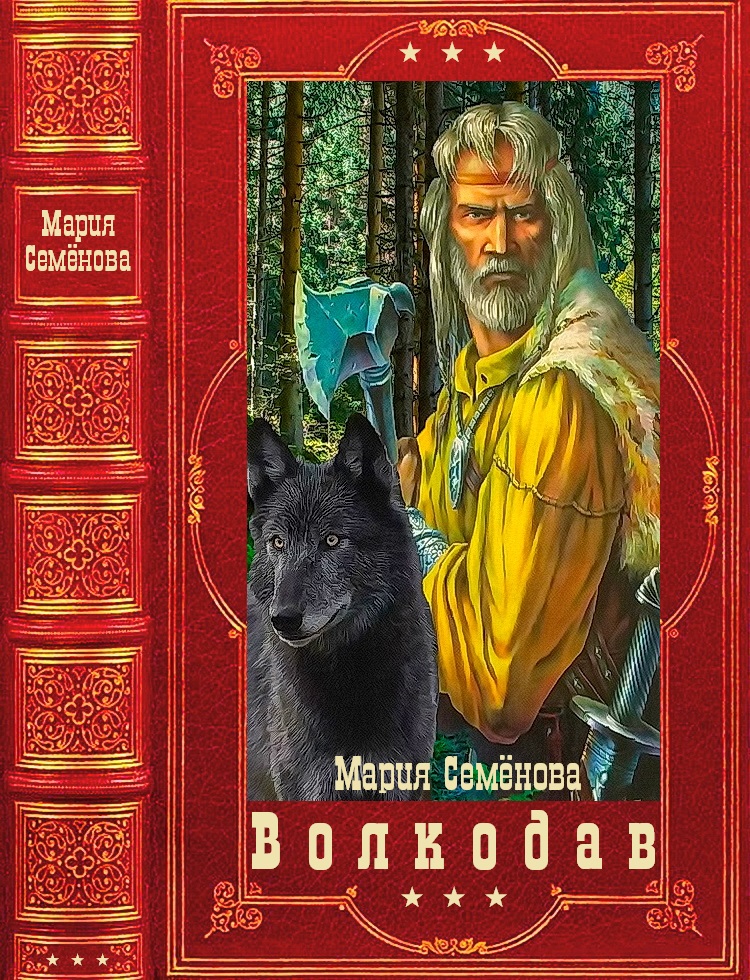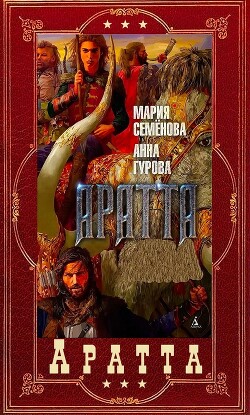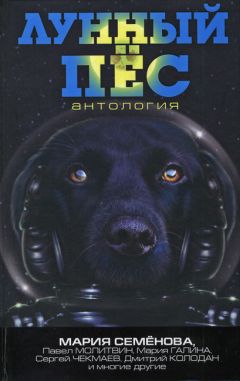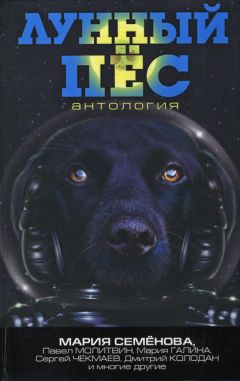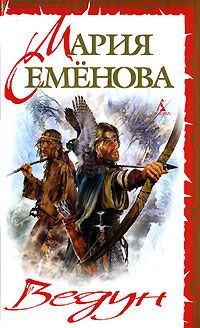кулаки, снедаемый беспомощной яростью.
Два царевича в лодочном сарае творили не просто воинскую проучку. Матёрый объяснял щенку, насколько тот ещё был слаб и ничтожен.
Чтоб на будущее покрепче запомнил…
«А вот так не хочешь, малец? И вот так ещё? И вот так?»
– Государь! – не выдержал Косохлёст. – Довольно!..
Спотыкающийся Эрелис лишь мотнул головой.
Гайдияр улыбнулся. Перебросил меч в левую руку и наконец стал показывать свою настоящую силу. Выведи ему таких Эрелисов хоть десяток, он прибыли не заметит. Кто здесь Меч Державы, потомок завоевателей, а кто – дитя неразумное! Он гонял Эрелиса из угла в угол как хотел. Вот Эрелис не удержал равновесия. С трудом встал.
Метнул себя вперёд на последних, ещё сберёгшихся искрах…
Перед его бешеной вспышкой Гайдияр прянул назад, раскинул руки… позволил коснуться себя. Расщеплённый кончик меча оставил двойную ссадину на груди. Гайдияр картинно бросил оружие:
– Твоя взяла, великий брат… Твой рында и вправду непобедимый удар тебе показал.
Косохлёст оказался подле Эрелиса быстрее, чем Ознобиша успел о чём-то подумать. На третьего царевича больно было смотреть, но он отстранил заменка. Повернулся к Гайдияру, приветствовал его мечом, прохрипел:
– Спасибо за науку, доблестный брат…
И согнулся пополам. Желудок, пустой с утра, вывернуло даром.
По́честь в бутырке – обычный съестной оброк, доставленный с исада, – Ознобише запомнилась скверно. За высоким столом было место лишь Гайдияру и его великому гостю. Ознобиша с Косохлёстом сидели в блюде, еда на стороне молодого рынды осталась почти нетронутой. Нерыжени повезло больше. Старшина Обора выставил её вместе с плохо соображающим, потрясённым Ардваном кормиться у мирских служек: кузнецов, портомоек и стряпок.
– Да огольца лохматого забери, пока чего не стащил!
Гайдияр отлично знал, кто скрывал себя под нечёсаными вихрами и драным кафтанишком, но для обычных порядчиков это была тайна. А сохранение тайны требует платы.
Эрелис сидел подле Гайдияра спокойный, обыкновенный. Ел с ним из блюда, беседовал, временами смеялся.
– Ты, великий брат, не часто покидаешь хоромы, – сказал Гайдияр, когда гости засобирались домой. – Нынче, поди, резвы ножки стоптал да со мной мечом намахался. Может, оботура велишь поседлать? Прости неучтивого, грешен я святому Огню: своей привычкой живу.
Умел позаботиться так, что и не придерёшься.
– Нет греха в обычае неутомимого воина, – ответил Эрелис. – Оставь беспокоиться, брат, мои сапоги добротно разношены и не набили мозолей. А вот к седлу я не слишком привычен. Свалюсь ещё, нос расшибу.
Исад выглядел совсем как утром. Может, лишь порядчики, поуспокоившись, держали народ чуть менее строго. С краю площади, где над головой дымила в стене «калашная» печь, долетала песня глиняной дудки.
– Я хочу послушать, – сказал вдруг Эрелис. И, не глядя на кривившегося Гайдияра, пошёл сквозь ряды.
Обученные порядчики устремились на выпередки. Угол под печью, где собралось простолюдье, вмиг опустел. Когда приблизились царевичи, слепой Сойко стоял на коленях, прижав к груди умолкшую дудку. Корзина, его обычное седалище, валялась поодаль. Перепуганный, взъерошенный Кобчик держал Сойку за плечо.
Птенцы в кулаке, зависшие между жизнью и смертью.
Это тебе не в порядчиков рыбьими головами кидаться…
– Приветствуй государей, дурак! – подсказал Обора.
– Го… су… – заикаясь, выговорил Сойко.
Младший так и стоял, приоткрыв рот.
Эрелис мог приказать страже, но шагнул сам. Без лишнего слова поднял слепца, усадил на корзину.
– Я сирота, как и ты. Сыграй для меня.
И Сойко вдруг успокоился. От ровесника веяло пониманием одиночества и невзгоды. Уличному гудцу было некогда толком раздумывать, он просто поднёс к губам дудку и заиграл.
Слова обычно пел Кобчик. Сейчас он не отважился подать голос, но велика ли беда? Песню и так знал весь Выскирег.
Отец мой с юности рыбачил,
Он чтил Киян и Небеса,
И неизменная удача
Ему дышала в паруса.
Он сеть забрасывал в пучину,
А мать сидела на руле.
Они с собой не брали сына,
Я оставался на земле.
Я мчался в гавань им навстречу
К исходу солнечного дня.
Мы коротали каждый вечер
В уютном доме у огня.
И вот однажды утром ранним
Они растаяли во мгле:
Отец веслом плескал в тумане,
А мать сидела на руле.
В тот вечер ждал я, как обычно,
Но их не выпустил туман:
За слишком щедрую добычу
Отплату стребовал Киян…
Имущество расхватала злая родня. Куда податься малютке, где заступы искать?
Мой дальний дядя взял наследство,
К нему был милостив закон.
А я в тот день простился с детством,
Из дому выставленный вон.
С тех пор темны мои дороги
И крошки хлеба нет во рту.
Над нами царь, на небе – Боги,
Но кто пригреет сироту?
Глиняный пузырь в руках Сойки плакал и горько смеялся на весь исад. Притих огонь, гудевший в печи. Смолкли вечные капельники, повременили ронять сырость и талое крошево.
Былым друзьям отшибло память:
Я был своим, а стал ничей.
Глядят незрячими глазами,
Моих не слушают речей,
Лишь отворачивают лица –
Мол, знать не знали отродясь! –
Чужим злосчастьем заразиться
Превыше совести боясь.
На самом деле рыбаки своих в беде не бросают, но на то песня, чтобы преувеличить, остерегая от зла. Сиротка чахнул и мёрз на пороге, через который ему больше не было ходу.
Скорей бы ночью непогожей
Из тьмы Кияна выплыл чёлн!
Ветрила серую рогожу
Тотчас примечу среди волн.
Ко мне отец протянет руки,
А мать направит бег челна,
И берег, поймище разлуки,
Навеки скроет пелена…
Эрелис молча слушал. Сойко, подхваченный внезапным наитием, неуловимо поменял голосницу. Обездоленное дитя выпрямилось, проламывая над собой своды. Начало восхождение к великой судьбе.
…Слова досочинили позже, но кое-кто утверждал, будто они прозвучали там и тогда…
Царь не носит с собой денег, ему нет нужды в серебре. Эрелис покосился через плечо. Ознобиша, с его неловкой правой рукой, убоялся промешкать с завязками, протянул Эрелису весь кошель, ну а тот подавно не стал отсчитывать мелочь. Бросил бархатный мешочек на колени слепцу.
Прошуршали шаги. Ощущение чего-то огромного, склонившегося к Сойке, растаяло, отдалилось.