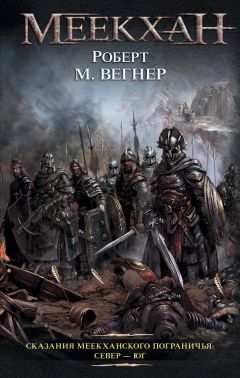Она смотрела, прищурившись, на него. Чуждость появлялась в ее глазах и снова исчезала.
– Ты ведь все еще думаешь о себе как об иссарам, верно? Все еще не можешь отсечь себя от того. Так не должно быть… – Она кивнула, принимая решение. – Открой лицо!
Он не отреагировал, в первый миг не будучи в силах понять, воспринять то, что она ему сказала.
– Ну давай! – Смех ее резал, словно стеклянный осколок, втыкающийся в тело. – Ты уже не иссарам. Ты отрекся от рода, племени, от общей души. Ты не должен закрывать лицо. Открой его!
Он стянул экхаар, ощущая щеками ласки ветра. Это было странное чувство. Он стоял перед чужой без повязки на лице. И не имея ничего, что мог бы потерять. Пустота появилась из ниоткуда, темная мрачная тяжесть, наполняющая место где-то в подвздошье. Она напоминала…
– Веретено черного льда, верно? – Она смотрела ему в глаза, а чуждость медленно всплывала в глубине ее глаз. – Словно в твое подвздошье кто-то воткнул кусок льда в форме веретена. Ты знаешь, что лед черен, и знаешь, что весит он больше целого мира, и что хуже – ты уверен, что никогда не удастся его извлечь. Ты станешь носить его до конца жизни, мой маленький скорпион. Мой Носящий Мечи, – добавила она почти ласково.
И жутко улыбнулась.
– Уже скоро будет случай тебя испытать. И если ты подведешь, то противник не оставит тебе ни малейшего шанса. Возможно, ты идешь туда затем лишь, чтобы умереть и дать мне шанс для бегства. Что скажешь?
– А тогда веретено исчезнет?
– Да, наверняка.
Он направил взгляд на стену.
– Тогда пойдем.
* * *
Мужчина изменился. Она ощутила это в полмгновения, с рукою, поднятой туда, где находилось его лицо. Теперь он не носил повязки, она видела глубоко посаженные глаза, печальные, словно осеннее небо, кривой, должно быть сломанный, нос, красивые губы. Был он молод, может, несколькими годами старше ее, – но одновременно стар. Трудно оказалось уловить его сущность, особенно при таком свете, но она решила, что попробует. Поразмыслив, добавила ему несколько морщин на лицо, решив, что этого будет достаточно.
С девушкой же проблем не было. Месяцами она видела ее на внутренней поверхности век, на рисунке чужом и болезненно знакомом, словно лицо матери, которое она пыталась вспомнить, но вместо которого появлялись лишь неясные образы. Однако она была уверена, что не ошибается. Не насчет этой девушки.
Ее камера была торцевой, коридор обегал ее с двух сторон, и в обеих стенах находились двери, снабженные небольшими оконцами. Стражники проведывали ее каждый час, заглядывая в оба оконца, а порой и входя в камеру, проверяя все куда более тщательно. Ее боялись сильнее – потому так часто проверяли, что именно она делает. Была у нее Сила призывать картины, Сила выпускать их из собственной головы. Картины пребывали там постоянно и были ужасающими.
Если они позволяли ей рисовать, в камере появлялись краски и кисточки, а еще куски бумаги – тоньше которой она и не видывала. Когда рисовала, всегда наблюдали за ней как минимум три человека, в том числе чародей, и дело было не только в том, что именно она рисовала, но и в том, чтобы она не припрятала краски, могущие сделаться в ее руках смертельным оружием. Это же относилось ко всему, что она могла использовать для рисования: остаткам пищи, питью, калу и моче, которые у нее забирали, едва она успевала поесть и удовлетворить свои потребности. В ее случае и речи не могло быть о вонючем ведре, что целыми днями стояло бы в углу камеры.
Они сделали все, чтобы лишить ее возможности бесконтрольно рисовать.
И все же она вот уже несколько дней рисовала эту картину.
Ей удалось скрыть то, что она делает, потому что стражники искали то, что, по их мнению, было бы рисунком. Прямые линии, ясно видимые фигуры, явственные образы. Искали они нечто подобное тому, что она рисовала до сей поры.
Им и в голову не пришло, что рисунок может выглядеть иначе.
Стены ее камеры были стенами укрепленного замка, выстроенного в типичной меекханской манере: солидно, дешево, не принимая в расчет эстетику. Им следовало выдержать удары метаемых баллистами камней, а не выглядеть красиво. Если даже и были они некогда гладкими, то теперь штукатурка отслаивалась от них целыми пластами, крошилась и устилала пол слоями пыли. Влажность, встающая с болот, с каждым годом оставляла все более отчетливый след на столетних стенах. Вместе с ней появился грибок. А когда камеру осушили и приготовили к ее приходу, никто не озаботился тем, чтобы оштукатурить ее заново. Согласно меекханскому прагматизму, было решено, что не стоит тратить деньги на борьбу, обреченную на поражение.
Это позволило ей творить.
Уже несколько дней в голове ее жил образ, который все настойчивей добивался освобождения. Она видела их на стене, мужчину с мечами за спиной и девушку с глазами словно вечернее предгрозовое небо. Она вычерчивала их образ на волглой штукатурке, используя для этого ногти и черенок деревянной ложки. Она делала это осторожно: тут черта, там царапина, легкий след, тень, обещание формы. К счастью, два влажных пятна на стене чуток напоминали человеческие абрисы. Легким касанием она нанесла линию лица, плеч, рукояти мечей, что выступали за спиной мужчины. Нужно было знать, куда смотреть, и напрячь воображение, чтобы в этом скоплении пятен и трещин увидеть Картину. Но она хорошо знала. Картина оставалась в ее голове и будет завершена, когда она решит, что готова. А значит – совсем скоро.
Она услышала шум разговора за дверьми.
* * *
Вторые и третьи двери были подобны первым: сталь и железо с небольшим застекленным окошком посредине. Вельгерис подходил к каждому с таким выражением, словно ему все сильнее хотелось ткнуть кого-нибудь ножом. Эккенхард нисколько не удивлялся. Недоверие живо в любом шпионе, оно – нечто естественное, словно сердцебиение или дыхание. Крыса полагал, что, будь он на месте их гостя, тоже чувствовал бы: что-то здесь не так. По сути-то, кроме красивого представления с таинственной башней, железными дверьми и вооруженной стражей, Гентрелл так и не представил никаких доказательств в подтверждение своей истории. Ни один из узников – ни первый парень, ни кажущаяся его ровесницей девочка, ни пятнадцатилетний с виду подросток – не производил серьезного впечатления. Спокойно спали в своих камерах и, похоже, не имели желания ходить по стенам или гнуть голыми руками толстенные стальные прутья.
Если бы не рисунки, которые произвели на Гончую такое впечатление, он наверняка бы развернулся и ушел. Но они как раз приближались к камере их автора. Если и она будет спать сном невинного младенца, наверняка ждет их война разведок, решил Крыса, глядя на лицо Вельгериса. Никто не любит, когда из него делают идиота.
Камера была торцевой, коридор от нее поворачивал вправо и шел вдоль восточной стены. В помещение вела пара дверей.
– Нам необходимо видеть каждый фрагмент камеры без того, чтобы ежеминутно входить внутрь, – пояснил Гентрелл, хотя Вельгерис не промолвил ни слова.
Гончая без звука подошел к двери. Не ожидая приказания, Эккенхард занялся веревкой, одним ухом прислушиваясь к бормотанию шпиона. Чувствовал, как встают дыбом волосы у него на затылке; обменялся взглядами с командиром, который уже стоял в паре шагов в стороне и со странным выражением разглядывал гостя. Тот шептал:
– Девочка, около пятнадцати-шестнадцати лет, светлые волосы, обтрепанная рубаха, спит на матрасе, лежащем на полу. Камера обустроена скромнее прочих, кроме матраса – никаких вещей, даже одеяла, стены, как и в предыдущих камерах, покрыты пятнами и лишаями… – Казалось, что Вельгерис засмотрелся куда-то в пространство, затаив дыхание. – Девочку окружает… нет, не могу это назвать, ее словно нет, словно она делит свое пространство с чем-то еще, и это не иллюзия, не превращение, не отсечение, нет ни следа прикосновения Хаоса… Ничего кроме Мрака. И все же… У меня пощипывает пальцы, в ушах стоит звон, вкус грибов на языке, лаванда… чеснок… мед… не от нее. Что, проклятие?..
Он чуть отступил, по очереди осмотрел все четыре засова, запирающие двери. Молниеносным движением, словно богомол, повернулся к Эккенхарду, глаза его были подобны черным колодцам. Потом взглянул налево, за поворот коридора.
И в этот миг из-за поворота вышла смерть.
Фигура в белом была будто вырезана из куска полотна и казалась двумерной. Потом она шагнула вперед, ее лизнул свет лампадки – и вдруг она обрела глубину, но не сделалась от этого менее абсурдной. Белые штаны, белая свободная рубаха, лицо – словно покрытая лаком маска, седые волосы, белые ладони – нет, перчатки, – штанины закрывают голени, но Эккенхард готов был поспорить на любые деньги, что сапоги пришлеца, если он их носил, тоже оказались бы белыми.
«Как, – заворочалось под черепом, – как он сюда вошел? Магия? Блокаду на башню наложили лучшие из чародеев Крысиной Норы».