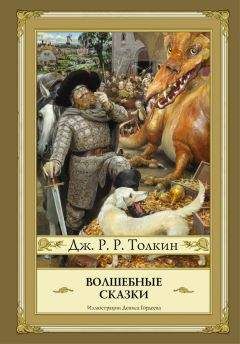Хлюпогубы
У хлюпогубов смельчака
Ждет тьма черней чернил
И колокольца звон, пока
Он угрязает в ил.
Покуда поглощает вас
Болото у ворот,
Горгульи с вас не сводят глаз
Под шум текущих вод.
Вдоль топких берегов речных –
Капель с плакучих ив,
И вороны сидят на них –
Вороний грай тосклив.
За Мерлокские горы путь неблизок туда,
Вдоль вонючих болот по замшелым лесам, –
Где в долине без ветра загнивает вода,
От луны и от солнца они прячутся там.
В подвалах тот народ живет,
Где сырь, и мразь, и хлад,
Свечу единственную жжет
И стережет свой клад.
За хлюпогубом хлюпогуб –
К дверям на ваш звонок:
Носами – «хлюп», губами – «хлюп»,
«Хлюп-хлюп» – стопами ног.
И в щелку робко так глядят,
Но скользкая рука
Вас хвать! – и косточки гремят
Уже на дне мешка!
За Мерлокские горы по замшелым лесам,
Где гнилые туманы и стояча вода,
По дороге нелегкой вы пройдете и там
Хлюпогубов найдете – хлюпогубам еда!
Вот остров Фаститокалон,
Который не населен.
Он пустой.
А все же земля пригодная для
Того, чтоб сойти с корабля,
Погулять, поиграть, порезвиться.
Ой! Постой!
Примечай-ка:
Даже белая чайка
На его берегах не гнездится –
Намекает нам птица:
Этот остров совсем не простой!
И беда моряку,
Если, качкой морской утомлен,
Он сойдет на Фаститокалон
Отдохнуть и сварить чайку.
Ох и олухи те моряки,
Что разводят на Нем костерки, –
Знать, не варят у них котелки!
Его шкура хотя и толста,
Притворяется Он неспроста,
Будто спит – это чистый обман:
Он хитер,
Он плывет в океан.
И едва разгорится костер,
Ухмыляется Он,
Обращается Он
Кверху брюхом, Фаститокалон.
С кораблем заодно
Гости канут на дно,
Они с жизнью прощаются
И тому удивляются.
Будь, моряк, начеку!
Ведь грозит моряку
В Море множество чудищ морских.
Но воистину страх –
Он,
Фаститокалон!
Он страшнейший из них
И последний в роду Черепах.
Надо помнить старинный завет:
Коль вам жизнь дорога,
Вылезать вам не след
На неведомые берега.
Ну а лучше со всеми
Мирно жить в Средиземье
Ныне и впредь,
Веселиться и петь.
Вот спит кот-обормот,
И он видит сон:
То сметанку, вишь, то мышь,
То жирен бульон,
То он вроде на свободе
Средь котов готов,
Яр и скор влиться в хор
Ста котовьих ртов,
А то вдруг – будто юг,
Зной, томленье, лень,
Люди ходят, звери бродят,
А он – в тень на весь день.
А вот лев – кровавый зев,
Клык на нож похож –
Превелик и очень дик;
Пард, он тож хорош,
Тоже грозный, в шкуре звездной,
Востроок, быстроног,
Для ловитвы – когти-бритвы:
Скок – и поволок.
Дикий в чащах настоящих
Жив народ –
Рычит, ревет.
Обормот в тепле живет –
Но свой род
Помнит кот!
Был одинокий человек,
Сидел всю ночь, весь день,
Сидел он камнем целый век –
Без тени! Где же тень?
Для белых сов он был шестком
Под зимнею луной,
А летом птиц не счесть на нем:
Ведь камень – не живой.
Однажды в сумерках – она
Пришла из темноты,
Вся в сером, волосы – волна,
А в волосах – цветы.
И вышел он из камня вон,
Распалось колдовство,
В свои объятья принял он
Ее, она – его.
И под звездой ночной, и днем
С тех пор своих дорог
Нет у нее: она – при нем,
Внизу, в тени, у ног.
Но ежегодно суть вещей
Выходит изнутри:
И вновь их двое, и он с ней
Танцует до зари.
Было солнце юно и месяц млад,
Когда выпевали боги свой клад:
Серебрую россыпь в зелени трав
И золота в водах прозрачных расплав.
Щель Хелля еще не разверзлась тогда,
Дракон не рожден был, ни гном – в те года
Здесь жили издревние эльфы одни,
Волшебным пеньем творили они
В холмах средь лесов много дивных вещей
И чудо-венцы для своих королей.
Пришел им закат, звук волшебных словес
Сталь заглушила и грохот желез;
Нет песен у жадности, только ощер
Угрюмый во мраке тесных пещер
Над грудой сокровищ – вековечного зла
На родину эльфов тень наползла.
Жил в темной пещере старый гном,
Плененный золотом и серебром,
В работу он вкладывал силу и злость,
Ладони истерты по самую кость:
Монеты ковал и снизки колец
И власть королевскую думал кузнец
Купить! Но вовек не покинул свой склеп,
И сморщился он, и оглох, и ослеп,
И скрючились руки и стали дрожать –
Он камушка в пальцах не мог удержать.
И он не услышал, как недра горы
Дрожали, когда, молодой в те поры,
Свою жажду сокровищ дракон утолил –
В пещеру заполз и огнем опалил,
В том пламени алом сгорел гном дотла,
Осталась от гнома на камне зола.
Жил старый дракон. Под серой скалой
Свой век пролежал он, одинокий и злой;
Когда-то был счастлив, когда-то млад,
Но, к злату прикован, стал он горбат,
Иссох, и померк алый свет его глаз,
И даже огонь в его сердце угас.
Алмазы вросли в его шкуру, привык
Сокровища пробовать он на язык,
Знал каждую вещь и каждый излом
Того, что лежит под черным крылом.
Он думал всегда об одном – о ворах:
Как плоть он сожрет, и сотрет кости в прах,
И кровью напьется. Его голова
Бессильно поникла, он дышит едва
И звона кольчуги не слышит. На бой
Дракона зовет воитель младой;
Сверкнул у героя в руках острый меч,
И тот, кто сокровища должен стеречь,
Чьи зубы – кинжалы, чья шкура была
Как сталь, – змей погиб, не поднявши крыла.
Жил старый король. Белоснежно седа
До костлявых колен отросла борода
С тех пор, как, юный, на трон воссел.
Веселья не знал он, не пил, не ел
И думал всегда об одном – о своем
Богатстве в большом сундуке под замком,
О золоте том и том серебре,
Что за кованой дверью хранятся в горе.
Его меч заржавел, его слава прошла,
Бесчестен был суд и неправы дела,
Хоромы безлюдны, темны – оттого ль,
Что был он эльфийского клада король?
Не чуял он крови, не слышал врагов,
Ни стука копыт, ни звука рогов –
Сгорели хоромы, погибла земля,
И в холодную щель брошен труп короля.
Был он и есть, под горой древний клад,
Забытый за створами кованых врат,
И смертный вовек в те врата не войдет.
Зеленая травка по склонам растет,
И овцы пасутся, и птица свистит,
И ветер морской в листве шелестит.
Да! ночь охраняет извечный клад,
Пока земля ждет, пока эльфы спят.
Вдоль моря я шел и ракушку нашел,
лежала в сыром песке,
Блестя от воды наподобье звезды,
и вот – заблестела в руке.
В ней звук зародился, потом повторился,
едва уловим, вдалеке:
Во мне он звучал, как волна о причал
или колокол на маяке.
И неторопливо с теченьем прилива
ко мне, вижу, лодка плывет:
«Все минули сроки, а путь нам
далекий».
Я сел и сказал ей: «Вперед!»
И вот наяву, как во сне, я плыву,
закутан в дремоту и мгу,
К неведомой мне вечерней стране
за бездной, на том берегу.
Так плыл я и плыл, а колокол бил,
раскачиваясь над волной;
Вот рифов гряда, где вскипает вода,
и вот он, тот берег иной.
В мерцающем свете там море, как сети,
где звездные блещут тела,
Над морем утесы, как кости, белесы,
и лунная пена бела.
Сквозь пальцы протек самоцветный поток –
жемчужен песок и лучист:
Свирель из опала, цветы из коралла,
берилл, изумруд, аметист.
Но там, под скалой, под морскою травой –
пещера темна и страшна,
И будто мороз коснулся волос…
Я – прочь, и померкла луна.
Бежал я от моря в зеленые взгорья,
напился воды из ручья,
И, вверх по теченью, ступень за ступенью,
в край вечного вечера я
Взошел – на ступень, где свет – это тень,
где падшие звезды – цветы,
Где в синем зерцале, как луны, мерцали
кувшинки, круглы и желты.
Там ива тиха и сонлива ольха,
не бьется река в берега,
Там на берег ирис мечи свои вынес,
и с копьями встала куга.
А небо все в звездах, и полнится воздух
музыкой у тихой реки,
Где зайцы и белки играют в горелки,
глазеют из нор барсуки,
И, как фонари, горят цветом зари
глаза мотыльков в полутьме, –
Там свирель и рожок, и танцующих ног
легкий шорох на ближнем холме.
Они, кажется, тут, но меня-то не ждут –
ни танцующих нет, ни огня:
Свирель и рожок от меня со всех ног,
и шуршание ног – от меня.
Трав речных-луговых я нарвал и из них
драгоценную мантию сплел,
С жезлом-веткой в руке и в цветочном венке
на высокий курган я взошел
И, как ранний петух, прокричал во весь дух
горделивый и резкий указ:
«Да признает земля своего короля!
Все ко мне на поклон сей же час!
Где же вы, наконец? Вот мой жезл и венец,
меч мой – ирис, тростина – копье!
Почему же вас нет? Что молчите в ответ?
Все ко мне! – вот веленье мое!»
И тут же на зов, словно черный покров,
тьма пала, и я, будто крот,
Пластаясь внизу, на ощупь ползу
то ли по кругу, то ли вперед;
Вокруг – мертвый лес, где опала с древес,
шуршит под руками листва:
Я сижу на земле, мысли бродят во мгле,
и кричит надо мною сова.
Год единый и день я сидел там, как пень,
и в трухе копошились жуки,
Ткали сеть пауки, из-под пальцев руки
грибы выросли, дождевики.
Ночь – как тысяча лет, но увидел я свет
и увидел я, что поседел:
«Пусть я прах и тлен, пусть я слаб и согбен,
но покину этот предел
И найду как-нибудь к морю путь!»
Брел я, брел. А летучая мышь
всю дорогу парила, перепончатокрыла,
Надо мной. Я кричал ей «кыш-кыш»
и шиповником бил. Весь изранен я был.
На плечах моих старости груз.
О вот дождь – и какой!
Пахнет солью морской и соленый на вкус.
Там чайки летали, кричали, стенали,
и кто-то в пещерах сопел,
Тюлень глухо тявкал, прилив в камнях чавкал,
а кит своим дыхалом пел.
Чем дальше, тем хуже, край суши все уже,
к тому же настала зима:
Лед на воде, лед в бороде, –
кромешное место и тьма!
И вдруг в полынье, вижу, лодка ко мне,
та же самая лодка плывет;
Упал я на дно, мне уже все равно –
куда хочет, туда пусть несет.
Вот остров тот, старый, где птичьи базары,
корабль весь в огнях, волнолом,
Вот берег родной, безмолвен и тьмой
укрыт, как вороньим крылом.
Был ветер и дождь. Дома била дрожь.
Присел я на чей-то порог
и в безлюдную ночь выбросил прочь
Сокровища дальних дорог:
Прочь с ладони песок, прочь морской завиток –
ракушка мертва и молчит:
На темный тот брег не вернусь я вовек,
и колокол не зазвучит.
Оборван и нищ, от скучных жилищ
вовек не уйду в белый свет,
Не встречу зарю. Сам с собой говорю,
ибо мне собеседника нет.