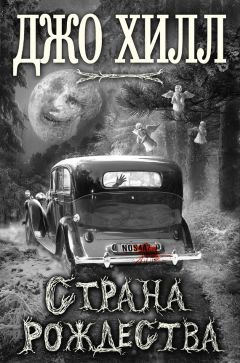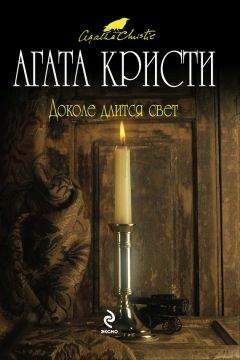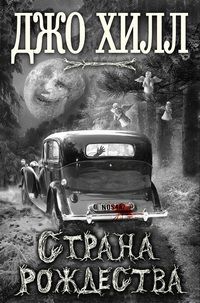— Господи, Бинг, — сказал мистер Мэнкс. — Где ты был? — Он открыл дверцу, выбрался из машины и стоял на парковке.
Девочка и ее отец уселись в свой пикап, и грузовик покатил задним ходом по гравию. Уэйн помахал рукой. Девочка увидела его и помахала в ответ. Ничего себе, какие у нее классные волосы. Изо всех этих гладких золотых волос можно было бы сделать веревку длиной в четыре фута. Можно было бы сделать шелковистую золотую петлю и повесить ее на ней. Небывалая мысль! Уэйн задумался, был ли кто-нибудь когда-нибудь повешен на собственных волосах.
Мэнкс какое-то время провел на стоянке, разговаривая по телефону. Он расхаживал туда-сюда, и его ботинки поднимали в белой пыли меловые облака.
В дверце позади сиденья водителя подпрыгнула кнопка блокировки. Мэнкс открыл дверь и наклонился внутрь.
— Уэйн? Помнишь, вчера я сказал, что если ты будешь хорошо себя вести, то сможешь поговорить со своей матерью? Я не хотел бы, чтобы ты думал, будто Чарли Мэнкс не умеет держать слово! Вот она. Она хотела бы услышать, как ты поживаешь.
Уэйн взял телефон.
— Мама? — сказал он. — Мама, это я. Как дела?
Сначала были шипение и треск, а потом он услышал голос матери, задыхающийся от волнения:
— Уэйн.
— Я здесь. Ты меня слышишь?
— Уэйн, — снова сказала она. — Уэйн. Ты в порядке?
— Да! — сказал он. — Мы остановились купить фейерверки. Мистер Мэнкс купит мне бенгальские огни и, может, бутылочную ракету. С тобой все в порядке? Ты говоришь, как будто плачешь.
— Я скучаю по тебе. Маме нужно вернуть тебя, Уэйн. Мне нужно тебя вернуть, и я еду к тебе.
— А. Хорошо, — сказал он. — А у меня зуб выпал. Вообще-то несколько зубов! Мама, я люблю тебя! Все хорошо. Я в порядке. Мы веселимся!
— Уэйн. Ты не в порядке. Он что-то с тобой делает. Забирается тебе в голову. Ты должен ему помешать. Должен бороться с ним. Он нехороший человек.
Уэйн почувствовал нервное трепетание у себя в животе. Он провел языком по своим новым, колючим, похожим на крючки зубам.
— Он покупает мне фейерверки, — угрюмо сказал он. Он все утро думал о фейерверках, о том, как будет пробивать ракетами отверстия в ночи, поджигать небо. Он хотел бы, чтобы можно было зажигать облака. Вот это было бы зрелище! Горящие плоты облаков, падающие с неба, извергающие при снижении столбы черного дыма.
— Он убил Хупера, Уэйн, — сказала она, и это было подобно удару в лицо. Уэйн вздрогнул. — Хупер погиб, сражаясь за тебя. Ты должен сражаться.
Хупер. У него было такое чувство, словно он долгие годы не думал о Хупере. Но теперь он его вспомнил, его большие, печальные и искательные глаза, выглядывающие из седой, как у йети, морды. Уэйн вспомнил его тяжелое дыхание, теплый шелковистый мех, глупую веселость… и то, как он умер. Он вгрызся в лодыжку Человека в Противогазе, а потом мистер Мэнкс… потом мистер Мэнкс…
— Мама, — сказал он вдруг. — По-моему, я заболел, мама. По-моему, внутри я весь отравлен.
— Ой, малыш, — сказала она, снова заплакав. — Малыш, ты только держись. Держись себя самого. Я еду.
У Уэйна появилась резь в глазах, и мир на мгновение размылся и раздвоился. Его удивило, что он едва не плакал. В конце концов, он не чувствовал настоящей грусти, это, скорее, было воспоминанием о грусти.
«Скажи ей что-нибудь, что могло бы ей пригодиться, — подумал он. Потом снова подумал то же самое, но на этот раз медленно и задом наперед: — Пригодиться. Нибудь-что. Скажи».
— Я видел бабушку Линди, — выпалил он вдруг. — Во сне. Она говорила запутанно, но пыталась сказать что-то о том, как с ним бороться. Только это трудно. Все равно что пытаться поднять булыжник ложкой.
— Что бы она ни говорила, просто делай это, — сказала мать. — Старайся.
— Да. Да, я постараюсь. Мама. Мама, кое-что еще, — сказал он, из-за внезапной срочности начиная тараторить. — Он везет нас повидаться с…
Но Мэнкс просунул руку в задний отсек машины и выхватил телефон у него из руки. Его длинное, тощее лицо пылало, и Уэйну показалось, что он видит в его глазах досаду, будто тот потерял карты, с которыми рассчитывал выиграть.
— Ладно, хватит болтовни, — сказал мистер Мэнкс веселым голосом, который не соответствовал мрачному полыханию в его глазах, и захлопнул дверцу перед лицом Уэйна.
Как только дверь закрылась, словно бы прекратилась подача электрического тока. Уэйн повалился на кожаные подушки, чувствуя усталость, шея у него ныла, в висках стучало. Он понял, что обеспокоен. Голос матери, ее плач, воспоминания об укусе и гибели Хупера растревожили его так сильно, что у него расстроился живот.
«Я отравлен, — думал он. — Отравлен я». Он коснулся своего переднего кармана, нащупав комок, составленный из всех зубов, которые выпали, и подумал о радиационном отравлении. «Я подвергаюсь облучению», — подумал он вслед за этим. «Облучение» было забавным словом, словом, вызывавшим в памяти гигантских муравьев из черно-белых фильмов, тех, которые он привык смотреть с отцом.
Он стал прикидывать, что произошло бы с муравьями в микроволновой печи. Предположил, что они бы просто изжарились, казалось невероятным, что они будут расти. Но как можно узнать, не попробовав! Он поглаживал лунный полумесяц, представляя себе муравьев, лопающихся, как попкорн. На задворках сознания присутствовала смутная мысль — насчет того, чтобы думать задом наперед, — но он не мог ее удержать. Она не была забавной.
К тому времени, когда Мэнкс вернулся в машину, Уэйн снова улыбался. Он не знал, как долго это продолжалось, но Мэнкс закончил разговор по телефону и сходил в лавку фейерверков «СТРЕЛЯЙ В ЛУНУ». У него был узкий коричневый бумажный пакет, из которого торчала длинная зеленая трубка в целлофановом пакете. Этикетка на трубке сообщала, что это ЛАВИНА ЗВЕЗД — ПРЕКРАСНОЕ ОКОНЧАНИЕ ПРЕКРАСНОЙ НОЧИ!
Мэнкс, глаза у которого слегка выпучивались, а губы растягивались в разочарованной гримасе, посмотрел поверх переднего сиденья на Уэйна.
— Я купил тебе бенгальские огни и ракету, — сказал Мэнкс. — Воспользуемся ли мы ими, это уже другой вопрос. Я уверен, что ты готов был сказать своей матери, что едем к мисс Мэгги Ли. Это испортило бы мне все удовольствие. Не знаю, почему я должен съезжать с дороги, чтобы обеспечить тебя забавами, когда ты, кажется, настроен отказывать мне в моих маленьких радостях.
— У меня ужасно болит голова, — сказал Уэйн.
Мэнкс яростно потряс головой, захлопнул дверцу и сорвался с пыльной стоянки, выбросив облако бурого дыма. Он был в плохом настроении на протяжении двух или трех миль, но невдалеке от границы Айовы жирный ежик пытался проковылять через дорогу, и «Призрак» ударил его с громким стуком. Звук был настолько громким и неожиданным, что Уэйн не удержался и разразился смехом. Мэнкс оглянулся, одарил его теплой, полной зависти улыбкой, включил радио, и оба они начали подпевать песне «О малый город Вифлеем»[149], и все стало намного лучше.
Дом Сна— Мама, мама, кое-что еще, он везет нас повидаться с… — сказал Уэйн, но за этим последовал грохот, дребезг и громкий стук захлопываемой дверцы.
— Ладно, хватит болтовни, — сказал Мэнкс своим радостным голосом карнавального затейника. — Милый малыш в последнее время многое пережил. Не хотел бы я, чтобы он надорвался!
У Вик полились слезы. Она уперлась кулаком в кухонный стол и покачивалась, плача в трубку.
Ребенок, которого она слышала на другом конце линии, говорил голосом Уэйна… но это был не Уэйн. Не вполне. В нем была дремотная, ошалелая отстраненность — не только от ситуации, но и от серьезного, самодостаточного ребенка, которым он всегда был. Лишь напоследок он походил на самого себя — после того как она напомнила ему о Хупере. Тогда он на мгновение показался смущенным и испуганным, но был самим собой. Говорил он как одурманенный наркотиками, как человек, только что начавший приходить в себя от глубокого наркоза.
Эта машина его в некотором роде анестезировала. Анестезировала, тем временем выкачивая из него необходимые личностные свойства, его Уэйность, оставляя лишь счастливую бездумную вещь. Вампира, догадалась она, вроде Брэда МакКоли, холодного маленького мальчика, который пытался убить ее в коттедже возле Ганбаррела сколько-то лет назад. Здесь нащупывалась линия рассуждений, которой она не смела следовать, от которой ей надо было отвернуться, иначе она завопила бы.
— С вами все в порядке, Виктория? Мне перезвонить в другое время?
— Вы убиваете его, — сказала она. — Он умирает.
— Он никогда не был более живым! Он хороший мальчик. Мы ладим, как Буч и Сандэнс![150] Я хорошо с ним обращаюсь, можете мне поверить. Собственно, я же обещал вам, что не причиню ему вреда. Я никогда не делал больно ни одному ребенку. О чем никто не знает после всей той лжи, что вы обо мне наговорили. Всю свою жизнь я посвятил служению детям, но вы были рады рассказывать всем, какой я небывалый педофил. Я был бы в своем праве, знаете ли, если бы проделывал с вашим сыном всякие ужасные вещи. Я бы только воплотил в жизнь все те небылицы, что вы обо мне наплели. Терпеть не могу отставать от мифа. Но во мне нет никакой злобы по отношению детям. — Он помолчал, потом добавил: — Со взрослыми, однако, все совсем по-другому.