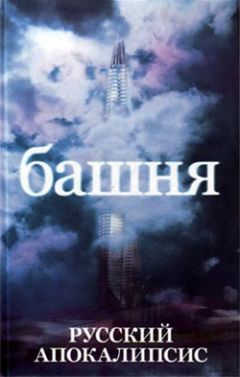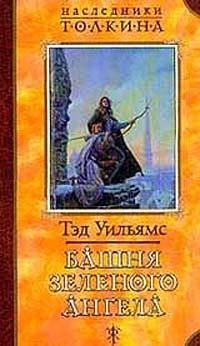но на них нет ответов. Это и значит быть мужчиной или женщиной, а не мальчиком или девочкой: ты должен сам их найти — зная, что простых и верных не существует. — Он повернулся к Стрэнгъярду. — Книга Моргенеса у вас собой или вы оставили ее в поселении?
Архивариус смотрел в огонь, погрузившись в глубокие размышления.
— Что? — спросил он, оживая. — Книга, ты сказал? О пастбища небес, я всегда ношу ее с собой! Разве я могу оставить ее где-то без присмотра? — Он повернулся и смущенно посмотрел на Саймона. — Конечно, она мне не принадлежит — пожалуйста, не думай, что я забыл твою доброту, Саймон, когда ты позволил мне ее почитать. Ты не можешь представить, какое удовольствие я получил, наслаждаясь словами Моргенеса!
Саймон ощутил странное щемящее чувство, вспомнив о Моргенесе. Как же он скучал по доброму старику!
— Она не принадлежит мне, отец Стрэнгъярд. Доктор Моргенес дал книгу мне на хранение, чтобы со временем такие люди, как вы и Бинабик, смогли ее прочитать. — Он хмуро улыбнулся. — Я думаю, именно этому я сейчас учусь — что мне ничего не принадлежит. Некоторое время я думал, будто Шип был предназначен для меня, но теперь сомневаюсь. Мне давали другие вещи, но ни одна из них не выполняет своего назначения. И я рад, что кто-то извлекает пользу из слов Моргенеса.
— Мы все извлекаем пользу. — Бинабик улыбнулся в ответ, но его голос оставался серьезным. — Моргенес рассчитывал именно на это в наши трудные времена.
— Один момент. — Отец Стрэнгъярд вскочил на ноги, очень скоро вернулся со своим мешком и небрежно высыпал на землю содержимое — книгу Эйдона, шарф, мех с водой, несколько мелких монет и других мелочей — манускрипт лежал в самом низу. — Вот он! — радостно вскричал Стрэнгъярд, а затем задумался. — Но зачем я его искал?
— Потому что я спросил, нет ли его у вас, — объяснил Бинабик. — Там есть отрывок, который может показаться Саймону интересным.
Тролль взял манускрипт и принялся осторожно перелистывать страницы, он хмурился, читая при пляшущем свете костра. Саймон решил, что процесс будет не слишком быстрым, и отошел облегчиться. На склоне ветер был особенно пронзительным, и белое озеро внизу, которое он видел в просветах между деревьями, выглядело вполне подходящим местом для призраков. Саймон вернулся к костру, дрожа от холода.
— Вот, я нашел нужное место. — Бинабик помахал страницей. — Ты справишься сам или мне прочитать отрывок вслух?
Саймон усмехнулся в ответ на заботу Бинабика.
— Ты любишь читать мне вслух, я тебя слушаю.
— Только в интересах твоего образования, — ответил Бинабик с ироничной суровостью. — Итак: «На самом деле, — писал Моргенес, — вопрос о том, кто являлся лучшим рыцарем, за многие годы стал причиной жарких споров, как в коридорах Санцеллана Эйдонитиса в Наббане, так и в тавернах Эркинланда и Эрнистира. Бесспорно, Камарис превосходил всех, но он не получал ни малейшего удовольствия от сражений — казалось, участие в войне и невероятные рыцарские умения были для него наказанием. Часто, когда честь заставляла его выступать в турнирах, он прятал герб Короля-Рыбака своего дома, чтобы его соперники не потеряли присутствия духа до начала поединка. Кроме того, он прославился тем, что давал своим противникам невероятную фору — например, сражался только левой рукой, и не из пустой бравады — как мне кажется, ему хотелось, чтобы кто-то хоть раз сумел его победить, избавив от бремени лучшего рыцаря Светлого Арда.
Ведь частенько стремление к славе заставляло пьяных скандалистов нападать на него в тавернах, а барды вдохновляли их на новые подвиги. Когда он сражался на войне, даже священники Матери Церкви соглашались, что поразительное смирение и милосердие Камариса к побежденному врагу простирались слишком далеко, словно он мечтал о благородном поражении и смерти. Его ратные подвиги, о которых говорили по всему Светлому Арду, для самого Камариса были чем-то постыдным.
Однажды, во время Первой войны тритингов, Таллистро из Пердруина попал в ловушку и погиб из-за предательства, которое стало знаменитым, и про него сложили почти столько же песен, как и баллад о подвигах Камариса. Только самого Джона могли считать достойным соперником Камариса за звание величайшего воина эйдонитского мира. Но никто даже представить не мог, что Престер Джон, несмотря на всю свою силу, сумел бы победить Камариса в честном поединке: после битвы при Нирулаге, где они сошлись в сражении, Камарис старался никогда не проводить даже тренировочных схваток с Джоном, чтобы не нарушить неустойчивого равновесия их дружбы.
Рыцарское мастерство Камариса являлось для него тягостным бременем, а участие в войне — даже в той, что благословила Мать Церковь, а некоторые из них даже вдохновляла — было для величайшего воина Наббана испытанием и источником скорби. Но Престер Джон именно на полях сражений чувствовал себя совершенно счастливым. Он не отличался жестокостью — побежденные враги не могли пожаловаться, что он поступал с ними несправедливо, за исключением ситхи, их Престер Джон ненавидел и преследовал до тех пор, пока они не исчезли совсем — и смертные их больше не видели.
Впрочем, кое-кто утверждает, будто ситхи не являются людьми, а потому не обладают душами — хотя я сам так не считаю, — можно сказать, что к врагам Джон относился так, что даже самый добросовестный священник не мог не признать его милосердия. А со своими подданными, даже язычниками Эрнистира, Джон неизменно оставался щедрым королем. И только в те времена, когда превратности войны ставили его в затруднительное положение, он превращался в опасное оружие. Вот почему Мать Церковь, чьим именем он покорял врагов, назвала его — в виде благодарности, а также из-за некоторого страха — Мечом Господним.
До наших дней не стихают споры о том, кто был более великим? Камарис, самый искусный воин, когда-либо бравший в руки оружие? Или Джон, лишь немногим менее умелый, но великий король, который с радостью приветствовал справедливую и угодную Господу войну?..»
Бинабик откашлялся.
— И, как написал Моргенес, споры продолжаются, поэтому сам он рассуждает на данную тему еще на нескольких страницах, ведь в прежние времена это имело большое значение — во всяком случае, многие так думали.
— Значит, Камарис умел убивать лучше, но ему это нравилось гораздо меньше, чем королю Джону? — спросил Саймон. — Но тогда зачем он продолжал быть рыцарем? Почему не стал монахом или отшельником?
— О, это и есть главное в твоих предыдущих размышлениях, Саймон, — сказал Бинабик, внимательно глядя темными глазами на юного рыцаря. — Вот почему книги, написанные великими мыслителями, помогают нам думать самостоятельно. Здесь Моргенес иначе сформулировал слова и имена, но это те же вопросы, что задаешь ты: