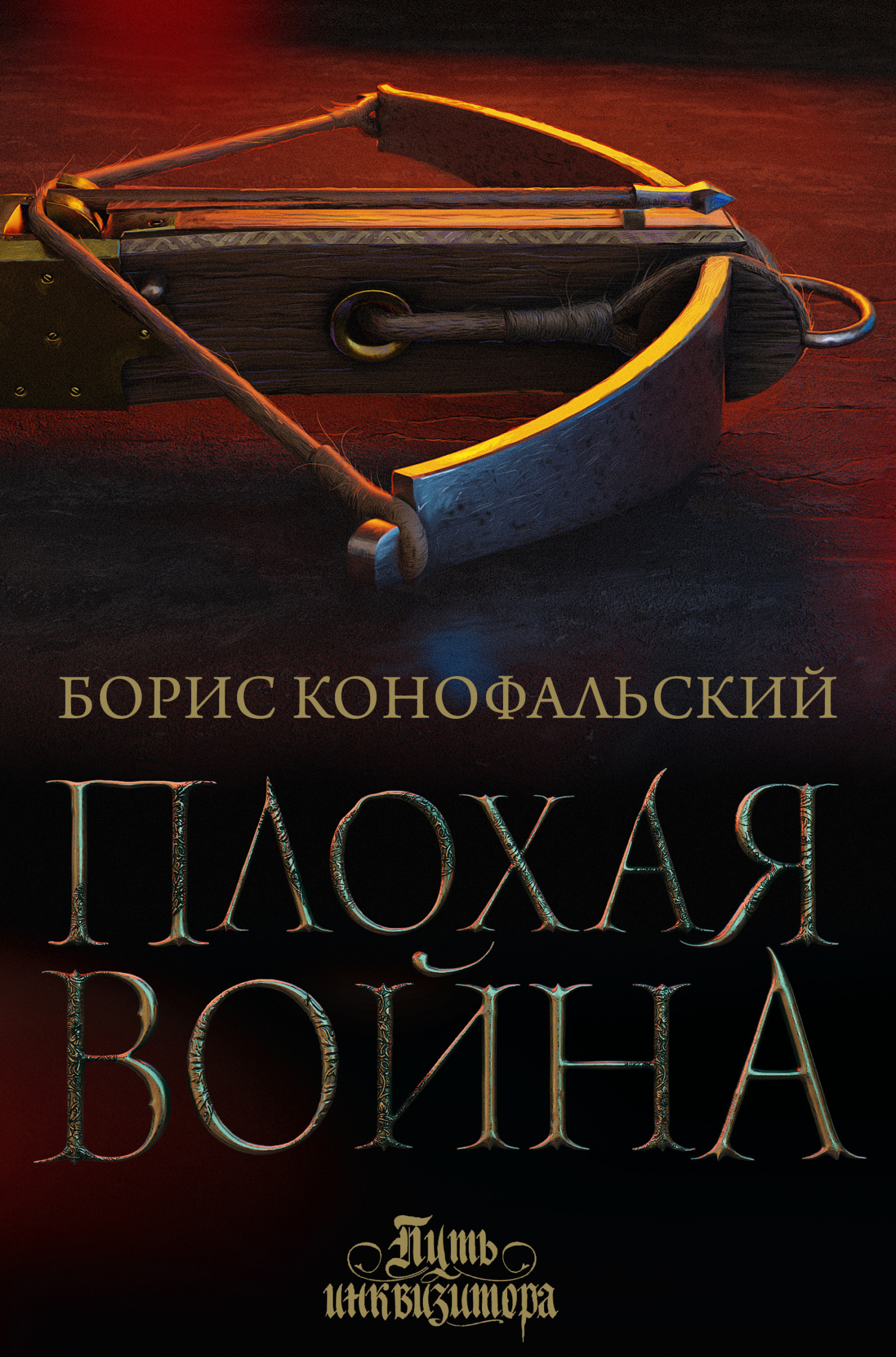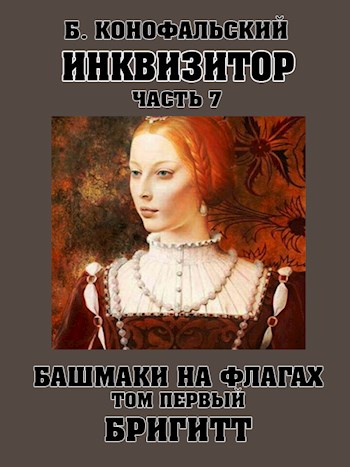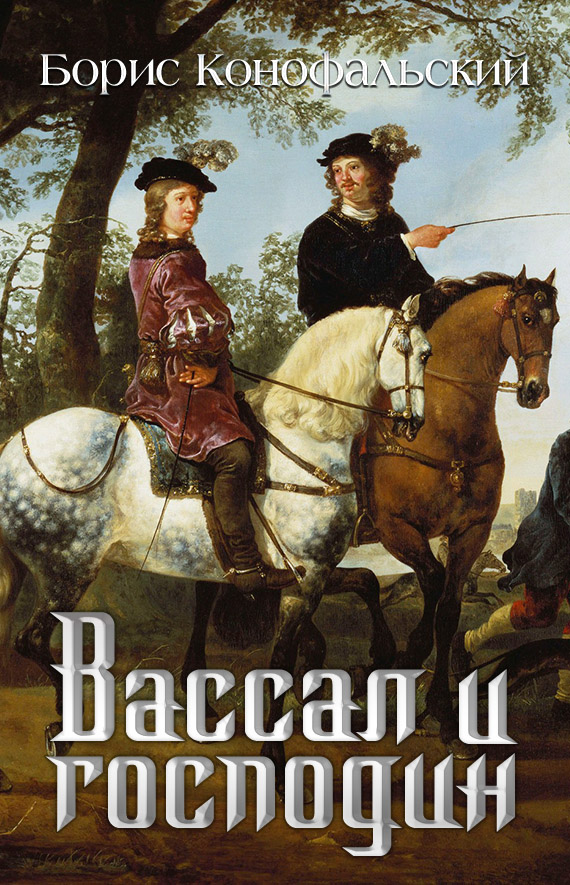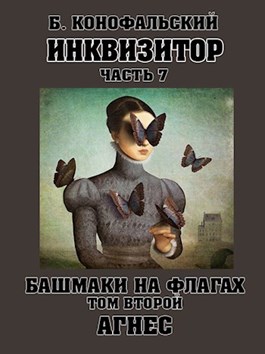лачуге монаха, но не доезжая до границы.
Волков молча кивал, понимая, о чем говорит ротмистр.
– А голову не находили?
– Нет, ни шлема, ни головы Рёдля я не сыскал, как, впрочем, и тела барона тоже.
– Тело барона уже в замке Баль, – заметил Волков и с удовольствием наблюдал, как меняется лицо ротмистра.
– Барона нашли? Кто же? – искренне удивлялся Бертье.
– Понятия не имею, может, он сам нашелся?
– Сам? – продолжал удивляться ротмистр. – Как сам?
– А вот так. Барон жив, хотя и тяжко хворает после раны.
– Ну уж… – произнес Бертье задумчиво. – После арбалетного болта в лицо любой прихворнет.
– Это так.
– А вы не спросили у него, что случилось с кавалером Рёдлем?
– Нет, я не видел его. Брюнхвальд и Гренер отвезли тело, так их какой-то господин даже на порог замка не пустил. Забрал убитого, поблагодарил, и все.
– Все это странно, не кажется ли вам, кавалер? – спросил Бертье.
– Более чем, Гаэтан. – У Волкова начала ныть нога, и он поднялся с корточек. – Более чем. Оставьте доспехи мне, я отвезу их и попробую увидеться с бароном.
– Хорошо, тогда я, пожалуй, пойду, – отвечал ротмистр, тоже вставая. – До свидания, кавалер.
– До свидания, друг мой. И кстати, доля ваша из добытого будет для вас приятна. Заберете ее у Брюнхвальда.
– Отлично, деньги мне окажутся кстати.
Они пожали друг другу руки, и Бертье ушел.
А Волков вернулся за стол доедать простую жирную похлебку из старого петуха и клецок, заправленную жареным луком.
Когда никто не видел, Бригитт положила свою тонкую руку на его руку и произнесла негромко:
– Желаете ли ночевать у меня сегодня, господин мой?
Он руку свою не убрал, хоть совсем рядом, в соседней с обеденной залой комнате, Мария ругала дворовую девку. Не убирая руки, он спросил:
– А благоприятны ли сегодня дни у жены моей?
Бригитт сразу изменилась, стала строга и поджала губы, руку с его руки убрала и лишь после этого сказала:
– В точности не знаю, может быть и так.
– Тогда сегодня я буду ночевать у жены.
– Доброй ночи вам, – ответила красавица и встала из-за стола.
Волков вздохнул, но ничего поделать он не мог. Может, он и сам предпочел бы постель, где по перинам и подушкам будут пламенем гореть красные локоны. Но прежде всего дело, а после уже прихоти. Ему нужен наследник, законный наследник. И поэтому он будет, когда нужно, спать в покоях своей законной жены, как бы ни взбрыкивала эта красивая рыжая кобылка.
* * *
Он поднялся по лестнице и без стука вошел в покои почти на цыпочках.
– Не крадитесь, вы все равно топаете, как рыцарский конь, – сказала Элеонора Августа раздраженно.
– Вы не спите, моя госпожа? – вежливо спросил Волков, присаживаясь на край постели и раздеваясь.
– Не сплю! Вас дожидаюсь.
– Рад это слышать!
– Не радуйтесь, не от благосклонности жду я вас. Я после дороги недомогаю, но знаю, что вы придете за своим, вот и терплю, не смыкая глаз.
– Очень жалею, что заставил вас ждать.
– Не жаль вам. И если бы я и спала, вы бы разве не разбудили меня? Разве вы бы хранили мой сон?
– Увы, моя госпожа, – отвечал кавалер, – не хранил бы. Мы с вами должны сделать дело, что требуют от нас законы людские и божьи.
– Так делайте и дайте мне спать. – Элеонора Августа откинула перину. – Что мне сделать, чтобы вы быстрее начали?
– Что? – немного растерялся кавалер.
– Ну, что делать мне? Может, встать по-собачьи, просто лежать или снять рубаху, чтобы вы свое дело быстрее закончили? – говорила жена с заметным раздражением, подбирая подол рубахи и сгибая ноги в коленях.
– Просто лежите, – ответил Волков все так же растерянно, – я постараюсь не задерживать вас.
Агнес, как ни хотелось ей, все время вида нового, прекрасного не носила. Она была умной девицей, понимала, что нужно и в своем обличье ходить. Тем более что те, кто ее знал и помнил, в новом обличии красавицы темноволосой ее просто не признали бы. Да и опасно это было. Вдруг кто из знакомцев или соседей, что видят ее из окон домов, с удивлением заметит, что девица, что жила рядом, стала совсем другой. А принимать вид, который ей нравится, она научилась почти мгновенно. В иное утро как проснется, так еще под периной, не вставая с постели, обращалась она в красавицу и, лишь обратившись, вставала и шла к зеркалу проверить, так ли все, как ей надобно. И почти всегда было все хорошо.
И теперь она проснулась от колоколов и, едва потянувшись под жаркой периной, сразу стала менять себя, чуть приподнимая перину, чтобы видеть изменения. Ей нравилось смотреть, как грудь, живот и бедра становятся другими прямо на глазах. И ничего, что от этого у нее была ломота по телу, словно от вчерашней тяжкой работы, это с утра всегда так, сейчас ломота утихнет, как только тело ее закончит меняться.
Агнес, наконец, откинула перину и встала с кровати. Ох, как хорошо ей сейчас, она опять потянулась, новая ее грудь, не в пример настоящей груди, качнулась, вздрагивала манящей тяжестью при каждом шаге. Девушка босая подошла к зеркалу, осмотрела себя с ног до головы. Хороша, придраться не к чему, так хороша, сама бы такую возжелала. Ну, разве что волос погуще внизу живота себе сделать.
А колокола, что разбудили ее, всё звонили и звонили. Агнес посмотрела на дверь.
– Ута!
Она ждала, но никто ей не отвечал. Тогда девушка подошла к двери, отворила ее и закричала грозно:
– Ута! Где ты?
– Тут, тут, госпожа! – Снизу, с лестницы, донеслись испуганный голос и тяжелое топанье. – Рубаху вам готовила свежую. – Прибежала, запыхавшаяся, поклонилась.
– Отчего колокола бьют, праздник какой? Так я не помню никаких праздников.
Агнес все праздники знала. До Рождества еще несколько дней, а других праздников нет сейчас. Ута только таращила свои коровьи глаза. Она не ведала, почему все утро в городе на всех колокольнях звонят колокола. Конечно, откуда этой дуре дебелой знать.
– Не знаю, госпожа, – наконец ответила служанка.
– Ты никогда ничего не знаешь, собака ты глупая, – проговорила без всякой злости Агнес.
– Пойти узнать? – уставилась на нее служанка.
– Иди уже, – отослала ее девушка, – но сначала одежду подготовь.
Ута, топая по лестнице, сбегает вниз, и Агнес идет вслед за ней. Как была босая, нагая и простоволосая, так и выходит к большому столу. Тут тепло, у плиты суетится горбунья Зельда. Она поздоровалась с госпожой. Конюх Игнатий сразу ушел, то ли в людскую, то ли на конюшню,