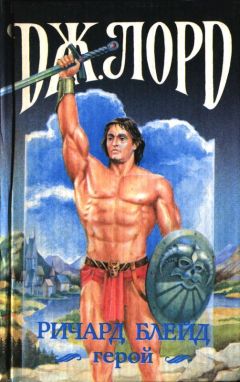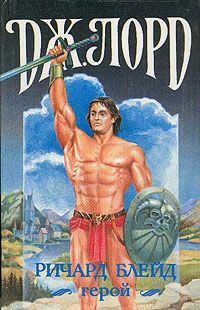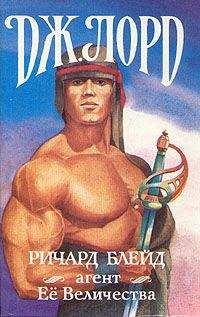Собственно, других альтернатив не оставалось. Блейд сунул ладонь под мышку и нащупал выпуклость спейсера. Он понимал, что если Аквия погибнет, если ее… гмм… съедят до того, как придет помощь, ему обеспечена почетная и пожизненная должность в лондонском зоопарке. Конечно, он может наудачу перепробовать все снадобья из её мешков, но результат, весьма вероятно, будет плачевным. Что, если у него вырастет хвост? Или рога с копытами? Или помутится рассудок? Это пахло уже не зоопарком, а пожизненным заключением в психушке…
Он решил не рисковать.
Поставив юрту, Блейд разжег огонь в печурке, благо в одном из мешков оставался еще ломоть жира. Отковырнув кусок, он сбегал к промоине, разложил наживку на берегу и со второй попытки прикончил крупного тюленя. Теперь у него было мясо, он быстро поджарил несколько толстых ломтей. Следовало поспешать — но поспешать медленно. И он действовал с основательной неторопливостью. Он не нуждался ни в одежде, ни в жилище, ни в транспорте; пища на два-три дня да оружие — вот все, что было нужно. Он имел теперь и то, и другое.
Свернув шатер, Блейд припрятал его вместе с прочим имуществом — мешками, печкой, меховым ложем и шкурами — под глубоким выступом тороса. Он завалил снегом вход в эту маленькую пещерку и нагромоздил рядом пирамиду из обломков льда. Этот указатель, плюс приметная полынья да четкий санный след гарантировали, что после спасательной операции они с Аквией смогут разыскать свое добро.
Затем Блейд натянул панцирь, повесил на левое плечо топор, на правое — сверток из шкуры катраба, в котором были фунтов двадцать тюленьего мяса, взял в руки копье и неспешно потрусил на запад по следу нарт. Огромный багровый диск, уже полностью поднявшийся над горизонтом, светил ему в спину, играя на перламутровых пластинах доспеха.
Весь день он бежал неторопливой и упорной волчьей рысью, делая по пять миль в час и изредка останавливаясь, чтобы пожевать мяса. Видимо, снадобье Аквии, благодаря которому он обзавелся медвежьей шубой, стимулировало не только рост волосяного покрова; Блейду казалось, что кожа его стала толще и грубее, и под ней начал откладываться слой жира. Несомненно, он был теперь более выносливым и сильным — настоящий полярный медведь с топором и тяжелым железным копьем вместо когтей и клыков.
Любопытно, на что рассчитывали эти дикари? Что он поплачет над разоренным лагерем и ляжет там умирать? Или пустится дальше в путь один? Потом Блейд понял, в чем дело. Вряд ли их лазутчики как следует разглядели его, и вряд ли они могли составить верное представление о его возможностях. Вероятно, они видели женщину и рослого мужчину в шубе, вот и все. А любой обычный человек, брошенный в ледяных равнинах Дарсолана без пищи и собак, был обречен на гибель. Оставалось только подождать пять-семь дней, пока рослый и сильный противник ослабеет от голода, чтобы вернуться и без хлопот подобрать еще двести фунтов человечьего мяса. Если к тому времени будет что подбирать!
Блейд убедился в справедливости своих предположений, когда навстречу ему из-за ближайших торосов стремительно выскочила стая ледяных волков — две дюжины крупных зверей с пепельно-седой шерстью. В пяти ярдах от него волки затормозили и начали недоверчиво изучать намеченную жертву. Видно, они были посмелей катрабов — или более голодны; во всяком случае, звери не пустились сразу наутек. Разведчик встал на четвереньки — в такой позиции он больше походил на страшного дайра — и заревел. Волчьи нервы не выдержали этого жуткого зрелища; вожак жалобно взвизгнул, словно нашкодивший щенок, и ринулся к спасительному нагромождению ледяных глыб. За ним в панике помчались остальные.
Довольно улыбаясь, разведчик поднялся и потрусил по следу, надеясь, что ему не доведется встретить настоящего снежного ящера. Он не сомневался, что одолеет чудище, но задержка не входила в его планы.
Однако вскоре улыбка Блейда погасла. Он размеренно переставлял ноги, поглядывая то на бело-фиолетовую равнину слева, то на гряду торосов, что тянулась справа и уходила на запад. Ничто не нарушало безмолвия мрачной равнины и ледяных скал; монотонное ритмичное движение и тишина располагали к раздумьям. Он думал.
Думал о том, что в этом странствии ему не удастся совершить ничего героического; тут просто не с кем сражаться за власть — да и над кем или чем он стал бы властвовать? Пожалуй, лишь дайры, кровожадные и безмозглые твари, которых не может зачаровать даже искусница Аквия, были ему равными противниками — конечно, в смысле силы, а не мозгов. И все его подвиги сведутся, скорее всего, к десятку пробитых черепов снежных ящеров плюс набег на стойбище жалких голодных дикарей-каннибалов… И женщины у него нет! Даже такой, как ненасытная и властолюбивая монгская принцесса Садда, сестра изувера Кхада… Она немало покуражилась над ним, однако не обрядила в жуткую шкуру монстра… да и в постели не отказывала ни в чем.
Да, Садда оказалась крепким орешком, но она была женщиной, его женщиной. Что уж говорить о юной страстной Талин, о нежной и хрупкой, как нефритовая статуэтка, Лали Мей, о мраморных богинях Меотиды! О тех, кто действительно любил его… О Зоэ…
Он рассмеялся — невесело и хрипло. Что он там толковал Дж. насчет лекарств? Что горькое надо запить сладким?
Но сам он запил горечь, что осталась в сердце после Меотиды, отвратительным ядовитым пойлом Дарсолана.
Это его странствие напоминало трагикомический фарс, и только в конце пути выяснится, чего же в нем намешано больше — трагического или смешного. Пожалуй, он не совсем верно оценил ситуацию — пройти сквозь ледяную пустыню, да еще в шкуре зверя, тоже подвиг. Если Аквия избавит его от этой растительности, все превратится в забавный эпизод; если же нет…
Аквия! Самая трудная загадка, которую он встретил в этом мире! Он не мог считать её своей женщиной — даже в том смысле, в котором его была Садда. Да, они провели вместе ночь — но что она сотворила с ним после этого! Ведьма!
И все же, все же… Чего-то он еще не понимал. Что погнало её в снега Берглиона, в ледяные равнины Дарсолана? Из смутных образов, навеянных ему в самый первый их вечер, он извлек, что Аквия — Аквилания! — принадлежала к роду Властителей южных краев, так что вряд ли её собирались подвергнуть какой-то страшной каре за колдовство. Теперь он совсем отбросил эту гипотезу, понимая, что женщина, владеющая древними знаниями о травах и отварах — не говоря уже о прочих способностях и несомненной красоте — была на родине окружена почетом. Значит, предположение о бегстве отпадало, и странствие ее, вероятно, являлось добровольным.