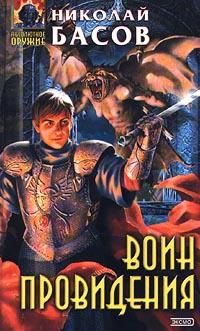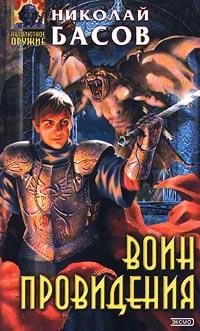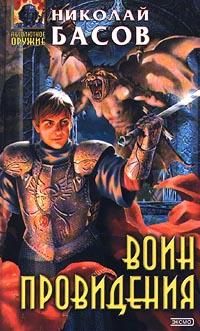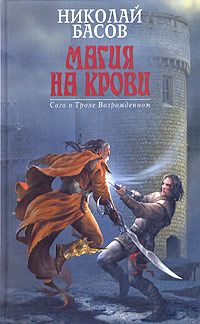— Ты можешь говорить?
Этот язык он знает. По крайней мере понимает слова, их смысл. И улавливает их вкус, который радует душу, оживляет её, рождает желание услышать что-то ещё, помимо этих слов.
— Ты забыл дасский? — снова спрашивает танцор. — Ты не понимаешь меня?
Собравшись с силами, он разжимает губы:
— Кто я?
Слова даются нелегко. К тому же голос его звучит не громче комариного зуденья, а губы и язык остаются неподвижными, как тот камень, на котором он лежал, согреваемый четырьмя гигантскими кострами. К тому же это слова языка Фо, такого древнего, что он сам удивляется их звучанию.
— Знаешь, — танцор доверительно наклоняется, — это язык заклинаний! А здесь пользуются дасским. Или дериб.
— Кто я? — он пытается говорить на дериб.
— Молодец, — хвалит танцор. — Ты — мой ученик. А я твой Учитель.
— Почему я ничего не помню? Учитель некоторое время молчит.
— Тебе придётся поверить мне, хотя то, что я скажу, мальчик, не будет всей правдой. — Видно, что он не умеет лгать. — Будем считать, что я опробовал очень редкий способ обучения — хотел вызвать память предков… И ошибся. Сейчас не важно, в чём именно, важно другое — ты умер.
— Умер?
Чувствует он себя, конечно, не очень хорошо, но зомби, наверное, должны были бы ощущать себя ещё хуже.
— Мне пришлось тебя оживлять. Это потребовало времени и сил.
— Это удалось тебе, Учитель.
— Будем считать, что я преподал тебе урок возвращения к жизни. — И Учитель улыбается. Не как от боли.
Мальчик хочет ещё о многом узнать, но усталость оказывается сильнее любопытства.
Через неделю он научился пить бульон из той дичи, которую Учитель приносил с охоты. Больше всего ему понравился вкус дикого кролика, хотя Учитель готовил его с большой осторожностью — по восточной системе, согласно которой он восстанавливался, кролик относился к неблагоприятным кушаньям. Как бы там ни было, он быстро оживал и радовался всему на свете.
Оказалось, они с Учителем жили в пещере, выходящей на небольшую — ярдов тридцать в диаметре — площадку, круто обрывающуюся с трёх сторон. Под ней, на глубине доброй сотни футов, по склонам речной долины росли высокие и разлапистые голубые ели. На площадку, прижимающуюся к отвесной горной стене, вела узкая, не шире фута, тропа. Она была хорошо утоптана, но так извилиста, что не всякий мог пройти по ней. К тому же она хорошо простреливалась. Один решительно настроенный лучник мог удерживать здесь отряд любой численности, разумеется, пока у него оставались стрелы.
Через две недели ученик начал ходить, а через месяц Учитель разбудил его однажды ранним утром, когда солнце ещё не освещало облака над горами и вересковыми пустошами. Голос у него был суховатый и очень тихий:
— Теперь ты каждый день будешь вставать вместе со мной. Пошли.
Они сбежали к речке и прыгнули в воду. Сначала он задохнулся — так холодна оказалась горная вода. Но спустя несколько минут её прохлада стала даже нравиться. А может быть, он вообще неправильно воспринимал тепло и холод, потому что ещё помнил раскалённый камень.
Они позавтракали стеблями какой-то высушенной травы. Он попросил дичи или хотя бы хлеба, но Учитель ответил:
— Тебе предстоит стать воином. Поэтому дичи ты сейчас не получишь. — И добавил, усмехаясь: — Считай это первой трудностью, которую тебе предстоит преодолеть.
Не объясняя, почему воинское обучение должно проводиться на голодный желудок, Учитель встал, вышел на край площадки перед их пещерой и сел в начальную позу для медитации. Почти сразу его восточное лицо стало безжизненным, и он невыразительным голосом приказал:
— Садись рядом, как и я. Успокойся духом, вдыхай жизнь… Ты должен постигнуть, что воина невозможно заставить беспокоиться или чего-либо хотеть. Всё, что ему не нравится, лишь обостряет его восприимчивость и решительность. Запомни это, иначе ты не выживешь… Ты всё равно не выживешь, но если с самого начала не будешь думать правильно, мальчик, то умрёшь слишком скоро, даже по меркам этого мира.
Первые месяцы учения показались адом. Они были до того страшны, что иногда ему начинало казаться: он опять лишился памяти, только теперь не может вспомнить не то, что было вчера, а то, что происходило час или даже минуту назад… Боль, страх, холод, голод, постоянное ожидание чего-то ещё более страшного, чем он только что испытал… И всегда над ним висело ледяное, бесстрастное лицо Учителя.
Через полгода его начала удивлять способность Учителя осознавать самые сложные состояния, которые возникали в душе и теле ученика во время тренировок. Учитель, без труда и ни разу не ошибившись, подводил его к пределу возможностей, но никогда не переступал этот порог, чтобы у мальчика даже на миг не возникло ощущение, что он не может чего-то сделать, чтобы его боевой дух не ослаб ни на секунду.
Через два года он стал получать от учения удовольствие, и у него вдруг взыграло самолюбие. Ему захотелось делать упражнения лучше, чем требовал Учитель, хотелось, чтобы он удивился его умению. Некоторое время восточник поддерживал это настроение, потом вдруг навалил дополнительные тренировки, да так, что мальчик сразу понял: пределов тому, что они изучают, нет. Совершенства не существует.
Уразумев эту нехитрую истину, мальчик открыл для себя, что, сосредоточившись на каком-то одном упражнении, упускает другие, причём самые простые. Например, он никак не мог обогнать зайца, а когда всё-таки научился догонять и хватать зверька за уши, стал проигрывать Учителю в беге на длинные дистанции. Как-то вечером Учитель сказал, что он неправильно расходует жизненную силу после десятой мили, но как расходовать её правильно, объяснять не стал, вероятно, полагал, что мальчик должен выработать это ощущение самостоятельно.
И ещё он плохо переносил воду. Тот жар, из которого он вышел, был несовместим с водой. Особенно тяжело ему приходилось после двух часов пребывания под водой — мышцы деревенели, координация разбалтывалась, дыхание, заторможенное для «бесшумного» вдоха и выдоха через тростинку, подводило, когда следовало сразу напасть на Учителя или бежать по горам…
Чуть позже ему никак не удавалось справиться с высотой. Бегать по верёвке он научился легко и уверенно. Но когда Учитель смазал шнур, и без того сплетённый из скользкого женского волоса, конопляным маслом, он без страховки не мог сделать на нём простой шпагат.
К тому времени он ходил уже не над рекой, в которую, как оказалось, даже на мелководье можно было падать с любой высоты, а над деревьями. Вся сложность этой тренировки заключалась в понимании ветра и, конечно, в технике блокировок при падении на ветки… А едва он научился не бояться предательского скольжения под ногами, Учитель вдруг начал прослаблять шнур. Пока он был натянут как струна, мальчик всегда мог схватиться за него, если срывался, но поймать свободно болтающуюся, ненадёжную, как сам ветер, опору стало невозможно. Как-то, несколько раз подряд довольно жестоко разбившись о ветки, он начал спорить: