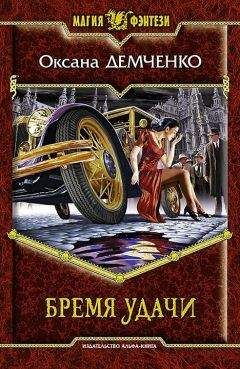– При должном везении… – неуверенно начала я успокаивать Хромова.
– При должном везении тебя бы увез бы в столицу… бы секретнейший дирижабль, которым я задурил голову начпоезда, – изо всех сил стараясь сохранить трезвые интонации, выговорил Семен. – Ника, видимо, твоя удача не распространяется на меня. О-о, как мне плохо…
– Сема, ты не переживай, обойдется. Удача – такая штука, к ней надо привыкнуть. Она не мотоцикл Рони, чтобы на ней кататься ради забавы. Она скорее вроде меня. Монстра-тихушница, от нее надо держаться в сторонке. И обращаться к ней лишь в крайней необходимости. Ты, надо полагать, смело полез рассматривать каждую детальку этой вот бешено сложной фарзы. Еще полбокальчика или хватит?
– Еще пять капель, и я начну подпевать твоим мамам, – жалобно ответил Семен. Вслушался в звучание последнего сказанного слова, остался им недоволен. – Ма-мам? Ма-мы? Мы…
Пришлось поплотнее скатать кофту, устроить голову Хромова на своем плече и позволить ему немного вздремнуть. Конечно, обидно, что по моей вине он пропустил весь первый акт. Зато спал сладко, тихо. И мне не мешал немножко шуметь. Когда Роберте все хлопали, я тоже хлопала и твердила «бис». Шепотом, но старательно. Приятно гордиться мамой. Она у меня очень красивая, и теперь уже нет сомнений: я на нее похожа. Если лет через двадцать я буду так выглядеть, пожалуй, у Хромова появится еще один повод терпеть «монстру». Мама, в отличие от меня нынешней, не тощая нескладеха, а настоящая изящная легкая женщина с замечательной фигурой. А голос у нее… Ну почему мне достался этот бестолковый дар удачи вместо настоящего голоса? Петь я могу, но куда мне до моих мам! Начни я пищать в ложе, только маги и заметят потуги: им по службе положено.
Во время антракта я исправно глядела на Зотова. Он прогарцевал по партеру взад-вперед подскакивающей и немного смешной кавалеристской походкой. Раскланялся с дамами и оскалился на франконского атташе столь зверски, что я сразу сочла наследника императорской крови неплохим человеком.
Потом Зотов сел на свое место, и удача от него окончательно отвернулась. Темнее, чем у него за спиной, во всем городе места не сыскать! Я порылась в мешанине нитей, перебрала варианты, опасаясь опоздать: изменения копились быстро, а удобного безопасного исхода все не было видно. Он оказался вообще один-единственный, и я едва успела его поддернуть в основное течение жизни из заводи того, что оставалось несостоявшимся.
Человек за спиной Зотова достал нечто вспотевшей рукой. Представляете? Вся удача – этот пот. Я могу так мало, даже смешно: нашлась тайная советница! И все же ничтожной детальки – влажных ладоней – вполне хватило. Рука соскользнула и оказалась разрезана об острую кромку. Я пискнула и задышала чаще. Не знаю, соберут ли злодею кисть даже опытные врачи-маги. Жилы срезаны, да так основательно… Мужчина согнулся пополам, пытаясь молча перетерпеть боль, спрятав руку под полой черного парадного фрака и стараясь наспех и незаметно перетянуть рану платком.
И тут я наконец толком рассмотрела отца. Прежде понимала, что он рядом, и даже кивала ему, но скорее по привычке, нежели сознательно. Карл фон Гесс ловко подхватил злодея под локоть и повел прочь. Еще одна нитка натянулась и зазвенела, готовая лопнуть: прежде неактивный участник заговора попытался устранить раненого. Я зашипела от негодования, развернулась всем телом, глянула назад и вверх, на балкон, который не был виден из ложи, но прекрасно ощущался фарзой. Тот, кто пытался причинить вред, сильно переживал. Так сильно… Слишком даже. Перегорел человек. Случается.
– Ренка, дай водички, – жалобно попросил Хромов. – Я спал, пока ты не взбрыкнула и не сбросила мою больную голову с кофты. У-у, монстра…
Я метнулась к столику, быстро налила воды и подала Семе. Он сидел, бережно баюкая больную голову в обеих ладонях, сложенных лодочкой и подсунутых под щеки. Кое-как выпрямился. Прокушенная губа уже припухла. Лицо землистое, серое. Хорошо хоть, кровь из носа больше не течет.
– Спасибо. – Хромов вернул бокал и улыбнулся вяло, но почти трезво. – Рена, не надо меня столь отчаянно жалеть, а себя – корить. Виноват в данном случае как раз я… Читал ведь о том, как опасно при первом же контакте с восьмым чувством углубляться в детали. И Карл мне сто раз, наверное, повторял: сразу переключиться на малозначительное и не лезть в подробности того, что увижу. Но когда еще я снова окажусь в ложе и смогу оценить этих людей и их связи. Для страны в целом и для…
– Ты жертва патриотизма, Сема, – хихикнула я.
Он прервал пояснения, нахмурился, вспоминая в точности, что сейчас сказал. Видимо, согласился с моей оценкой и тоже негромко рассмеялся. Я подкатила столик и переставила ближе к Хромову огурчики, грибочки и селедочку. Налила ему клюквенного – я по запаху сужу – морса. Взяла себе пирожное и персик.
– Зотов выправляется, – оживился Хромов, искоса глянув в партер.
– Ты опять за свое? В планах на вечер новая потеря сознания, затем еще бокальчик коньяка и ария во втором акте на бис?
– Прости. Голова гудит, я плохо соображаю. Рена, честное слово продажного писаки: буду глядеть только на сцену. Ух ты! Это же Марк Юнц.
– На сцене?
– Ника, не шуми, не хлопай крыльями, и так голова ноет. Но на будущее запомни во-он того неприметного человечка. Что-то он не нравится мне окончательно.
– Кто такой?
– Семенов, второй по таланту маг-пси в тайной полиции, насколько я знаю. Перешел туда из магической, когда ее расформировали. Юнц счел, что Семенов то ли осознал ошибки, то ли достаточно вменяем и понимает, кто теперь в силе. Он ведь в покаяние верит, наш добрый ректор. Но ты этого раскаявшегося типа на всякий случай запомни. И не вздыхай, уже гляжу на сцену, как обещал.
Я тоже смотрела на сцену. В душе такое творилось… Да соберись злодеи повторно убивать Зотова, я бы и не заметила. Роберта пела вдохновенно, и я знала всем сердцем: мама поет для меня одной. Приехала сюда, наверняка нарушив мыслимые и немыслимые запреты, вышла на первую сцену страны без толковых репетиций. Хотя я сильно подозреваю Алмазову и маму Лену в подготовке нынешнего вроде бы спонтанного чуда – огромного, непостижимого и все же для меня, жадной птицы, недостаточного. Я хотела поговорить с мамой. Оказаться рядом, дотронуться до руки – поверить окончательно, что она есть, настоящая, моя кровная мама, роднее некуда. Сказать ей… Не знаю что, но мне явно следует много разного ей рассказать! Она-то поет, я слышу голос и вижу ее, поэтому последние Семкины платки извожу. А ей каково? Нельзя ведь просто раскланяться, уйти со сцены, вернуться во дворец и снова стать вешалкой для призрачного «платья» – облика Диваны.