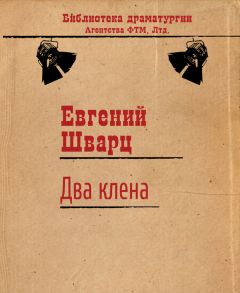спешили по домам припозднившиеся гуляки и редкие прохожие, обретая на свету плоть и рельеф — и вновь превращаясь в невнятные силуэты, чтобы воплотиться полусотней шагов дальше.
Я двинулся вглубь квартала вихляющейся походкой пьяного, позволяя ногам носить меня влево-вправо. Я не актёр, но надеялся, что выходит правдоподобно. Покидая харчевню, я опрокинул на себя последнюю чашку саке, так что аромат теперь источал соответствующий.
На середине улицы я загорланил:
— Са-ёй-ёй!
Закрутила красотка меня, увлекла:
«Новая лодка любви!»
Са-ёй-ёй!
Ты и я, я и ты,
Вместе сливаются два ручья…
Эту песню на кладбище пел захмелевший Сакаи. А я запомнил.
— Ситтонтон! Ситтонтон!
Эта чара, чара, чара,
Словно полная луна…
Ситтонтон, налей вина!
Орал я как осёл под кнутом: пьяный гуляка, са-ёй-ёй! Остановившись на перекрёстке, я стал качаться из стороны в сторону. По мостовой елозили две мои тени от двух фонарей на разных углах. Прямо? Налево? Направо? Ноги понесли меня направо, я им доверился.
Время шло, я уже начинал беспокоиться.
— Торянсэ, торянсэ [16]!
Куда ведёт эта тропинка?
К храму Тэндзина.
Пожалуйста, разрешите мне пройти!
Без дела не пустим…
Эту песенку я распевал в детстве, играя со сверстниками в «дальний путь». Мой отец, начальник караула ночной стражи, её терпеть не мог. Позже я узнал, что песня изображает разговор путника со стражей на заставе. Стража, скажем прямо, представала не в лучшем виде, намекая путнику на взятку за разрешение пройти.
— Моей дочке исполнилось семь лет,
Я иду в храм за талисманом.
Туда идти хорошо, а возвращаться будет страшно,
Но даже если страшно,
Пожалуйста, проходите, проходите!
Торянсэ, торянсэ!
Переулок. Свет фонарей остался за спиной. Брусчатку сменила грязь, влажно всхлипывая под сандалиями. Голос мой эхом отдавался от заборов и стен домов, уносился в тёмные глуби́ны окраины.
— Простите мою дерзость, господин…
— А? Чего? Кто здесь?!
— Вы, кажется, заблудились?
— Я?! Я никогда н-не… Не заблуждаюсь!
Тихий смех — перезвон серебряных колокольчиков. Вот она, передо мной, в трёх шагах. Лицо изысканное, прекрасное, как луна, сошедшая с небес. Пышные волосы — ночь, чей покров обещает любовные утехи. Кимоно — чистый перламутр раковины: мерцает, сияет, переливается…
На миг я потерял дар речи. Такой красоте не место в грязном переулке!
— Много было у нас по пути
Приютов, гостиниц,
Где мы ночевали
На ложе любви…
Она пела, нет, декламировала. Куда там мне, с моим ослиным рёвом! В её словах звучало обещание. Голос дразнил, звал, тёк и переливался, как сияние женского кимоно. Фигуру девушки и все предметы вокруг окутали светящиеся ореолы, превратив безымянный проулок в уголок волшебной страны.
Аромат. Волнует, будоражит, тонкий и неотступный, знакомый и незнакомый; влечёт на край света. Хиганбана. Цветок мертвеца; лилия демонов. Именно так описывал Одзаки Хэруо запах, что вёл его за собой, даже когда луноликая соблазнительница исчезала из виду.
Белый, мертвенный лик. Родинка на левой щеке.
Тебя я и ждал.
«А что, господин? И ничего особенного! Одному живую банщицу подавай, другому мёртвую. Изысканный вкус, тонкие манеры…»
— Вы так замечательно пели, господин! Ваша песня тронула моё сердце. Вы ведь живёте не здесь? Не в этом квартале?
— Н-не здесь.
Я мотнул головой в подтверждение. Покачнулся, ухватился за ближайший забор, чтобы не упасть.
— Ворота уже закрыли, господин. Вам не попасть домой.
— Закрыли…
— Но вы же не станете ночевать на улице?
Улыбка. Голос. Свет чарует. Аромат сводит с ума.
Не смотреть! Не могу…
— Если луна укажет мне путь, я готов пройти вслед за ней хоть тысячу ри!
— На запад до райских селений? — звенят, журчат серебряные колокольчики. — Да вы поэт, господин! Но мой дом куда ближе. Там вы найдёте и приют на ночь, и ложе…
«Ложе любви». — услышал я.
— О, прекрасная госпожа! Веди меня скорее!
— За мной, господин. Тут недалеко.
— И негде сменить нам усталых коней!
Показалось мне — или на самом деле лицо красавицы, прежде чем она повернулась ко мне спиной, двинувшись вперёд, исказила неприятная гримаса?
Манящий силуэт. Шлейф сладостного аромата. Жар в груди. Сердце грохочет, удары барабанов сотрясают всё тело. Флейта вдувает хмель прямо в душу. Мне не нужно притворяться пьяным. Я пьян этим запахом, обликом, пьян предвкушением, от которого становится тесно в штанах.
Я иду, спешу!
…опомнись, Торюмон Рэйден, сказал кто-то, сидящий в зрительном зале, пустом и тёмном, на жёсткой подушке. Чему учил тебя святой Иссэн? Чему учил Ясухиро-сэнсей?! Выровняй дыхание, болван. Успокой мысли. Отрешись от чувств. Сосредоточься…
Легко сказать, откликнулся я, бегущий к счастью по «цветочной тропе». Успокой? Отрешись? Сосредоточься?! Иди вон, чего пристал!
Ты видишь слишком много, сказал он; ты видишь то, чего нет. Слышишь, обоняешь, воображаешь — с избытком, чересчур. «Лягушка в колодце не знает большого моря»? Иногда не знать — благо. Не знать, не видеть, не слышать. Ты — лягушка, понял? У тебя есть твой узкий колодец — и больше ничего. Сосредоточься на том, что видно из него. Выбери, что ты видишь на самом деле. И рявкнул так, что сцена колыхнулась у меня под ногами:
«Не отвлекайся!»
Моя проводница оборачивается. Она что-то услышала? Наш безмолвный диалог? Луна в ночи, мерцание перламутра. Аромат…
Хватит, велел тот, из зала. Отсеки лишнее! Что ты видишь? Что видит лягушка из своего колодца? Краешек ночного неба. Родинка. Родинка на левой щеке. Точка на безупречной белизне. Миниатюрный изъян.
Родинка. Кусочек плоти.
Давно мёртвой плоти.
Да, сказал он, тёмный и холодный, как зал без публики. Изъян. Он не возбуждает, не манит, не пьянит. Он отрезвляет. Помни о нём, лягушка! Думай о нём! Есть дамы, которые клеят себе такие родинки — без изъяна нет прелести. Без старения нет юности, без увядания нет расцвета. Без жизни нет смерти, без зрительного зала нет сцены; без риса нет жалованья…
Что за чепуха! Спасительная чепуха.
Жемчужные ореолы меркнут, истончаются, выцветают. Сквозь них проступают горбатые заборы, контуры спящих домов, едва различимая вязь голых ветвей. Призрачный силуэт проводницы движется странно. То плывёт над самой землёй, то резко дёргается — в сторону, за угол.