— Послушай, милый, не строй из себя тургеневскую девушку и не кидайся красивыми словами. Если твоя свобода тебе не дорога — это твое дело, но я не собираюсь давать тебе возможностей для морального шантажа. Я не хочу ручаться за себя на всю жизнь, а потом терзаться комплексом вины из-за того, что ты подашься в монахи.
— Иными словами, ты намерена изменить мне, едва отыщется более достойная кандидатура, и заключить брак уже с ним. А если и после него подыщется более достойный — то с ним. И da capo[8]. Каждый раз заключая в магистрате новый союз свободных и независимых людей.
— Арт, не говори гадостей! Почему ты все доводишь до абсурда? Ты два года понимал, что между нами грех — и с эрекцией тем не менее все у тебя было нормально. Скажи, что изменится в принципе, если мы заключим гражданский брак?
— Ничего. Тэмми, ты два года не хотела брать на себя никаких обязательств из страха, что семейная жизнь разрушит твою армейскую карьеру. Вот — твоя армейская карьера разрушена. А ты как будто до сих пор думаешь, что можно быть немножко беременной: любить, но с оглядкой по сторонам. Да, два года я уступал тебе. Я был слаб. Но сейчас быть слабым — слишком большая роскошь для меня. Я нужен себе весь, целиком, я не могу оторвать для тебя ни кусочка — только предложить себя всего. Ни больше ни меньше. Если ты не готова принять меня всего здесь, перед Богом — значит, ты ничего не получишь.
— Ну хорошо, — устало сказала она. — В таком случае… Пошел ты знаешь куда, святоша!
— Я пойду туда, — Артем показал на двери храма. — Один или с тобой. Понимаешь, есть черта, за которой компромисс невозможен. И мы к ней подошли.
— Двигай, — сказала Тамара, еле сдерживая злые слезы.
— Не мучай себя и меня. Пойдем. — Он протянул руку.
Она сорвала с пальца кольцо и сунула ему в ладонь.
— Розарий в бардачке не забыл? — Ей хотелось подыскать слова пообидней и позлей, а они все не шли на ум. — Будешь целовать пять ран Иисуса — поцелуй одну и за меня.
— Тэмми, я никогда не бил женщин и не собираюсь начинать с тебя.
— Рыцари, которыми ты так восхищаешься, женщин бить не стеснялись. Давай, чего уж там. Будь наконец-то искренним, покажи на деле, чего стоит твоя любовь. Господи, да ты же все время смотрел на меня как на половую тряпку — чем я думала, когда связалась с тобой? Тебе на меня наплевать, лишь бы душенька была чиста.
— Нет, Тэмми. Похоже, что дело обстоит наоборот: это тебе на меня наплевать — лишь бы подружки по эскадрилье не сочли твое замужество изменой вашему оголтелому феминизму.
— Иди. Иди в свою богомольню, видеть тебя больше не хочу.
— Подожди меня здесь. Это минут пятнадцать — я отвезу тебя обратно в Севастополь.
— Премного благодарна! До Качи я отсюда прекрасно дойду пешком.
— Не делай еще одной глупости. Тебе совершенно ни к чему в Качу. Ты не знаешь, что там происходит. Подожди меня, я отвезу тебя к матери.
— Опять твои идиотские фантазии? Ну, посижу я месяцок-другой под арестом в компании подружек — тебе-то что до этого, раз я тебе никто?
— Ты так уверена, что все ограничится сидением под арестом?
— Да, факимада, уверена! А хоть бы и не так — ты же собрался в свой полк?
— Я офицер.
— А я что, хвост собачий?
— Я мужчина.
— И гордись этим, раз такой дурак.
— Тэмми. Любимая. Я тебя очень прошу. Я тебя умоляю. Дай мне отвезти тебя к матери — хотя бы до завтрашнего вечера, до конца своего отпуска.
— Не называй меня любимой. Я тебе никто.
Ни слова больше не говоря, он повернулся и открыл дверь храма. Закрывать ее за собой не стал — Тамара видела, как он преклонил колени перед Святыми Дарами, а потом сел на скамью, сплетя пальцы в замок и упираясь в них лбом. Упертый цыганчук. Она знала, что он не оглянется, — но если она сделает хоть шаг, то ее длинная тень заползет в храм первой и ляжет у его ног. Прочь. У нее, черт возьми, тоже есть гордость. Может быть, она дала бы уломать себя — если бы он бросился следом и умолял. Она ведь едва не сдалась на его мольбу. Невероятно: взрослый, самостоятельный человек, офицер — и ведет себя как школьник, обчитавшийся рыцарских романов. Идиотизм.
Она обошла «хайлендер» — и только сейчас разглядела над входом в храм, в нише, фигуру святого. Прекрасный и почти нагой, привязанный к столбу и пронзенный стрелами, — он смотрел вверх и улыбался сквозь муку. Статуя была выполнена в современной манере — не в той, классической, которая всегда раздражала Тамару благостным бесстрастием мученических лиц и картинным положением тел — скульптор передал и судорогу боли, и то непроизвольное стремление сжаться, уменьшиться, которое возникает под прицелом, — но эта судорога и это стремление были преодолены победительной улыбкой и движением как бы вперед, навстречу стрелам. Тамара вздрогнула.
А ведь он тоже был солдатом, вспомнила она. Даже офицером. Центурионом, кажется. Ага, ротным. И свои же ребята, небось, его и расстреляли. Еще один идиот. Религия идиотов и мазохистов. Получай от своего Бога по морде и улыбайся. Как нам втирал в реальном этот старый маразматик отец Даниил — «Если страдаешь за дело — кайся, если страдаешь безвинно — радуйся». Ненавижу. Лицемеры и рабы.
Она резко развернулась к дверям храма спиной и, глотая слезы, зашагала по дороге вниз — навстречу своей свободе.
***
Утро было ветреным. Вдоль по Слащева стелился белый вихрь: облетала черешня. Надувной Рональд Макдональд рвался с привязей под треск флагов. Недавно открытая американская закусочная блестела, как операционное отделение Бахчисарайской земской больницы.
Он нашел там почти весь свой «клуб самоубийц».
— Ну, наконец-то! — сказал Князь. — «Макдональдс» окупил себя на год вперед — столько мы тут сожрали, пока ждали тебя… Не мог назначить в приличном месте…
— А мне что-нибудь оставили? У меня есть совершенно нечего, а все закрыто.
— Травись. — Князь толкнул к нему по столу пакет.
Арт, не глядя, подхватил его и махнул рукой:
— Пошли.
Советских солдат не было видно — в этой окраинной забегаловке спиртного не подавали. На том и строился расчет.
Они расселись по машинам — четверо — к Верещагину, трое — к Князю. Один должен был подъехать прямо на квартиру.
Советская колонна БМД попалась им на площади Победы — колонна стояла, впереди была пробка. Кажется, задержка в пути не расстраивала никого, кроме раскаленного докрасна городового. Ругаясь и время от времени свистя, он пытался рассредоточить затор. Советские десантники — ошарашенно-веселые мальчишки — курили и общались, сидя на броне машин. С одной из БМД несся звон гитары и песня про новый поворот. Песню пели большим хором, состоящим из десантников и крымцев… Артем посигналил Князю, чтобы тот сдал назад, завертел руль и под всеобщее неодобрение объехал пробку по тротуару.
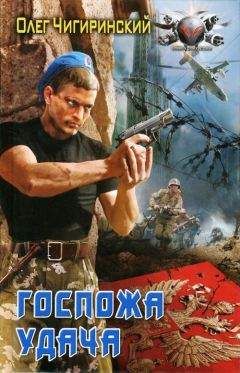

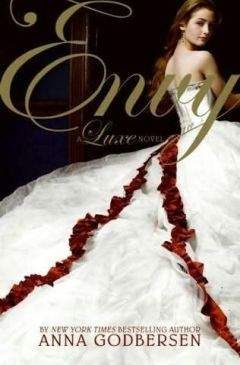
![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)
