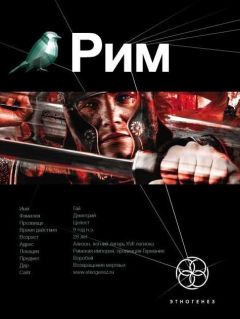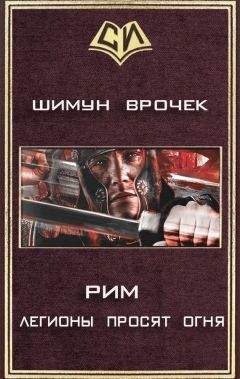Я прохожу на свое место у самой арены, там белое пятно — высшие чиновники провинции Германия — и яркие красные, синие и зеленые пятна — местные вожди в праздничных плащах.
Квинтилий Вар поднимается мне навстречу, пожимаем друг другу запястья, ритуально обнимаемся. Мягкие руки. От него пахнет восточными благовониями — сладковатый запах, похожий на запах разлагающихся на крестах трупов. Я слышал эту историю. «Иудейский изюм» — так назвали тех бунтовщиков, которых Вар распял по дороге в Ершалаим: их тела высохли на яростном восточном солнце, стали мягкими.
Тогда Вар подавил бунт быстро и решительно. Так же быстро и решительно он мстил за смерть моего брата.
Меня знакомят с крепким сорокалетним римлянином, у него мужественное лицо воина — это Нумоний Вала, я слышал про него много хорошего. Это настоящий воин, опытный солдат, прошедший десятки сражений, сейчас — легат Восемнадцатого легиона. Он сдержанно кивает мне. Видимо, он слышал обо мне гораздо меньше хорошего, чем я о нем.
Легат Девятнадцатого легиона — Гортензий Мамурра, сын старого соратника Гая Юлия Цезаря. Это кислолицый юноша сенаторского возраста, он завивает и умащает маслом редкие волосы, а телосложением напоминает пожухлый гороховый стручок.
Очередь германцев. Сегест, вождь хаттов — одного из самых сильных и крупных племен германцев. Ему лет сорок пять, он высокий и грузный, с чисто выбритым круглым лицом. Глаза его смотрят с непривычной для меня прямотой — в Риме бы такой взгляд сочли невежливым. Говорят, этот человек — один из самых верных наших союзников здесь, в Германии.
Из дальнего ряда кивает мне Арминий — он тоже здесь.
Я знакомлюсь, раскланиваюсь и пожимаю руки. Наконец, с формальностями закончено. На сцене молодые гладиаторы бьются деревянными мечами, чтобы заполнить время до настоящих боев. Зрители не обращают на них никакого внимания. Крики торговцев: «Вода! Вино!» — откуда-то еще: «Хлеб! Мясо! Жареные птички!» Забавно. Такой Рим в миниатюре.
Я сажусь на скамью с подушечкой. Задираю голову. На арене, не обращая внимания на гладиаторов, скачут воробьи, щебечут. Зрители бросают им куски хлеба. Чириканье нарастает. Один из воробьев, самый быстрый и наглый, выхватив кусок хлеба, резко начинает удирать, чтобы остальные не догнали и не надрали ему задницу. Счастливчиков никто не любит. Ну чем воробьи не люди, а?
Наконец, Квинтилий Вар поднимается и вяло машет рукой распорядителю игр. Тот кланяется и поворачивается к зрителям. На нем парик мима и украшенная символами Меркурия цветная туника.
Взмах руки. Ревут трубы. Долгий протяжный звук, от которого стая воробьев взлетает вверх и рассыпается, как горсть хлебных крошек. Потом снова садится по краям арены. Молодые гладиаторы убегают. Арена пуста.
Наступает тишина. Игры начинаются.
* * *
На арену вышли сразу несколько варваров. Приговоренные к смерти узники — их должны были распять, но решили найти им более интересное применение. Или, может быть, начала ощущаться нехватка крестов, не знаю. Плотницкие мастерские легионов тоже не могут работать безостановочно.
Они вышли — твердо, все как один высокие и крепкие. Их двенадцать человек. Все в лохмотьях, измученные пленом. Мужчины. Один из них идет упругой походкой воина. Сверкающий взгляд как удар кинжала.
Цирк взревел — варвары должны умереть, но умереть для общей радости. Кровавое зрелище пьянит — и это особое, пугающее опьянение. Оно напоминает экстаз вакханок — недаром Август запретил отправление этого культа гражданам Рима. Толпа шумит и кричит, требуя крови. В толпе не остается отдельных людей. Толпа — чумазое многоголовое, многорукое божество, приносящее жертву самой себе, на собственный алтарь.
Глухое рокочущее рычание. От этого звука у меня по спине пробегает озноб. Германцев должны затравить зверьми — в Риме бы для этой цели привезли львов и тигров, волков или леопардов. Но кого припас Вар?
Звук трубы. Амфитеатр ревет в очередной раз, но уже тише. И вдруг — тишина.
Томительное ожидание. Белый песок — арена. Несколько человек в центре. И один воин, стоящий отдельно. Варвар выпрямляется. Бородатый, с изуродованным шрамом лицом.
Тишина длится. Напряжение натягивается в воздухе, как корабельный канат.
— Р-р-р-р, — негромкое, но жуткое.
И никого. Люди в центре арены стоят. Один из них, молодой парень, шатается и падает на колени, пытается подняться… Ему помогает один из смертников.
— Р-р-р-р.
Тишина такая, что слышно, как за стенами амфитеатра проезжает повозка, сворачивает, грохоча осями, куда-то — звук отдаляется.
Пленники ждут.
Я дышу медленно, словно через раз. Сердце стучит бешено, словно в бою. Ожидание становится невыносимым — весь амфитеатр замер, в толпе вскрикивает женский голос, не выдержав напряжения.
— Убейте их! — кричит кто-то. На него шикают.
Опять тишина. Ради таких вот мгновений в Риме живет половина города, если не больше. Я шумно вдыхаю, воздух наполняет грудь, в горле пересохло, как в сирийской пустыне.
Ну же! Когда?! Я не могу больше выносить это ожидание.
В такие моменты чувствуешь себя живым — сто крат, сто тысяч крат.
И вот оно. По лицам людей в центре арены словно проходит волна, искажает, сминает лица и тела… разбивается об утес одинокого воина — но даже он подается, отступает на шаг. Взгляды их направлены на что-то… на собственную смерть.
Еще не видя того, что видят они, я понимаю, что смотрят они в глаза Танатоса — посланца смерти. Ужас накрывает их темной пеленой.
И словно голос посланца подземного мира, выходца из-за Ахерона и Стикса, звучит ужасающее, подобное грому:
— Пускайте их.
Скрежет решетки. Я вижу, как люди на моих глазах умирают с каждым мгновением — с каждым дюймом поднимающейся решетки… черная тень подземного мира поглощает их, наплывает. И только воин стоит отдельно от всех, как утес, готовый встретить каменной грудью удар волн.
Решетка поднята. Тишина. Томительное ожидание.
Из прохода на арену, по белому, огромному в эту секунду пространству песка осторожным кошачьим шагом выскальзывает полосатая тень. Выходит тигр. Вонючая мускулистая кошка. Бежит.
Шкура тигра почти красная, в темных полосах, лоснится и переливается. Мышцы перетекают в мышцы. Он ужасен. Он весь как сгусток ртути. Весь как живая молния, неторопливо бегущая по песку.
Тигр прекрасен. В полной тишине он бесшумно идет по кругу. Затем останавливается, поворачивает широкую усатую морду и оскаливается. Клыки.
И тут толпа начинает реветь. Крик поднимается как пылевой столб. Тигр прижимает уши, снова рычит. Люди хлопают в ладоши, кричат, стучат друг друга по спинам — да! да! да! Чистая, незамутненная радость. Гул утихает. Тише, тише, не пугайте тигра!