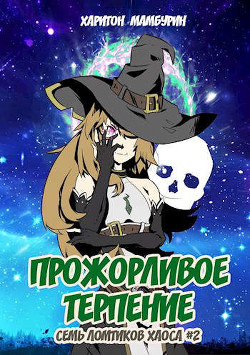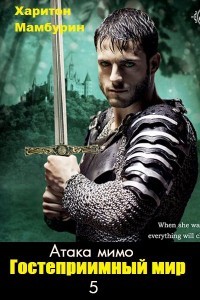class="p1">Нелла Аркадьевна Окалина играла в жизни Стакомска одну из главных, хоть и совсем не публичных ролей. Она, вместе с её «институтом» НИИСУКРС под патронажем комитета социальной интеграции, была следователем, судьей и исполнителем приговоров для тех неосапов, что нарушили законы СССР и представляют из себя угрозу обществу. Проще говоря, эта гигантская блондинка могла в любое время поставить к стенке любого подозреваемого.
В данном случае — меня.
— Повтори, что ты сказал! — проскрежетала женщина, стоя со мной нос к носу, — Просто… повтори.
— Пов…, — начал я, но был встряхнут с такой силой, что чуть не остался без рук.
— Только попробуй…, — в голосе майора звучала могильная стылость.
— Пробую! — оскалился висящий в руках у валькирии я ей прямо в лицо, вызывая небольшую оторопь, — У твоей Юли нет отверстий, в которые я ей мог бы сделать «что-то неприличное». Ни одного. Вообще ни одного. Она «призрак»! Я что, по-вашему, не найду кого отыметь в этом дурдоме? Что начну приставать к…
Меня снова травматично встряхнули, обдав арктической стужей из глаз. А затем бросили наземь.
— Заткнись, Изотов, — выдохнула женщина, — Ты меня услышал и понял. Бери свои вещи и вали.
— Нечего из меня сексуального маньяка делать, — злобно пробурчал я, отряхивая штаны.
— Ты хладнокровно убил человека, — процедила Нелла Аркадьевна, возвышаясь надо мной, как секвойя над мартышкой, — Убил не потому, что Ожегов над тобой издевался или мучил… или еще что! Ты его убил для того, чтобы привлечь общественное внимание к Лещенко! Всего лишь. И такую тварь я вынуждена поселить вместе со своей дочерью…
— Да-да-да, — пробурчал я, — Витенька плохой, Витенька ужасный, Витенька смеет отстаивать своё право на жизнь. Какой кошмар-то! Какое неподчинение! Вах-вах-вах! Ужас-ужас! Ату его!
— Иди, Изотов.
— Передавайте привет Нине Валерьевне! Скажите ей, что между нами все в силе! — на прощание каркнул я, бодро поскакав вперед, к контрольно-пропускному пункту, ведущему на улицу Коморская.
Затем, получив добро от хмурого здорового молодца, одетого в какой-то совсем уж неприличных размеров бронежилет, напоминающий скафандр взрывника, я, пройдя на саму улицу, подошёл к стене ближайшего дома, уронил баулы, а потом также уронил и жопу на асфальт, закрывая лицо руками. Хотелось плакать, смеяться, блевать и курить. А еще, почему-то, трахаться.
Сказать, что прошёл по лезвию бритвы — не сказать ни-че-го! Совсем ничего! Ни капли! Я обычный парень, который был раньше обычным человеком, в жизни не убившим никого крупнее кролика (а вот их да, приходилось), внезапно по наитию (!) сворачиваю шею (!) другому человеку! Не врагу! Не фашисту какому-нибудь! Да, редкостному гондону и твари, но об этом я знал лишь по намекам гребаного Лещенко, когда Мишка доставал его, начиная играться с проводами или механизмами во время моих обследований!
А тогда, четыре дня назад, задолбанный постоянными переключениями, которые мне устраивал тот же Лещенко, я неожиданно понял, что эмоций у меня в форме тумана нет! Что размышлять могу холодно, спокойно и отстраненно! Тогда и озарило, что единственный способ для меня хоть что-то изменить будет в том, чтобы поднять шум. Привлечь внимание, устроить катавасию, которую добившийся успеха ученый не сможет погасить. Сделать это можно было лишь грохнув либо его самого, либо Ожегова, только вот сам ученый, будучи стопроцентно нормальным человеком, отпадал. А вот хулиганящий под запись Миша, криптид повернутый, подходил. Был лишь вопрос, как мне сопротивляться его воздействию?
На этот вопрос я ответ знал. Не зря столько времени рядом с ними провел в детстве. Достаточно лишь уверить себя в том, что для меня никто не авторитет, никого слушать не нужно. Для обоих моих форм на тот момент, проблемы самоубеждения не существовало. …только оказалось, что это и не понадобилось. Ожегов своими словами никак на меня не подействовал. Совсем. А вот я на него своим ударом под дых, ударом с одетой в металл ноги в пятак, крошащим ребра ударом колена в спину и сворачивающими его шею руками — очень даже!
Дальше были вопли, сопли, истерика Лещенко, сразу и живо представившего, как с его зада сдерут кожу за просёр ценнейшего актива, угрюмое молчание Окалины, три солдата у моей камеры… Но всё кончилось хорошо. Куда лучше, чем я мог бы надеяться.
Наверное…
Вздохнув, я принялся копаться в своей сумке, попутно оглядывая знаменитую Коморскую улицу. Ну, ничего необычного, почти. Обычный асфальт, два ряда пятиэтажек, солнышко светит, травка зеленеет, девочка на качелях качается. Синяя, конечно, девочка, в смысле синекожая, да и лет я бы ей двадцать пять дал бы… а бутылку водки, из которой она прихлебывает, отобрал бы. Да вот только смущает стоящий рядом с качельками и раскачивающий их одним пальцем парень ростом около трех метров. Худой ваще капец! А еще у него глаза светятся. Ну и шарообразного толстяка, летящего метрах в пятнадцати над землей с авоськой, тоже проигнорировать сложно. Как и воспоминание, что тут все с прибабахом.
Веселое место. Так, ладно, куда мне?
Пока вспоминал, ноги сами перевели через улицу, а затем через двор, к детской площадке, на которой и находились работающие качели. Дойдя до очень колоритной парочки из верзилы и синекожей алкоголички, я вежливо поздоровался, а потом и спросил направление на место, где продают водку. Получив достаточно дружелюбное наставление от обоих, поблагодарил, да почапал в магазин. Водка, да. Она нужна. Нужно отпраздновать… всё. В том числе и пропажу моего личного проклятия, отпугивающего людей! Я теперь могу с ними общаться! Могу заводить отношения! Сексом трахаться с ними могу!
Окалина, стерва, сказала об этом только тогда, когда ехали в воронке уже на Коморскую. За то я её и припечатал так, что аж убить меня захотела. Ишь ты, «если ты сделаешь моей девочке хоть что-нибудь…». Я что, упрашивал тебя давать мне свою дочь в соседки?! Да нахрен мне нужен «призрак»! Что с этим бревном делать? Ни подружиться, ни поговорить, ничего. Верните мне Салиновского!
Две бутылки водки, четверка плавленых сырков, вязанка краковской и бутылка кефира на утро, что еще нужно? Пара буханок хлеба. Всё, можно идти искать свою берлогу по адресу: Коморская 14/г.
Особенность улицы открылась мне, когда я сунул жало за пятиэтажки, стоящие довольно тесно. Там, за ними, царил немалых размеров заросший