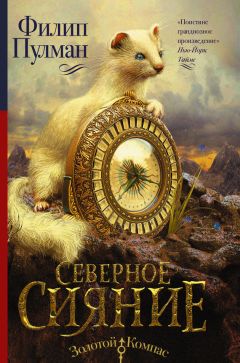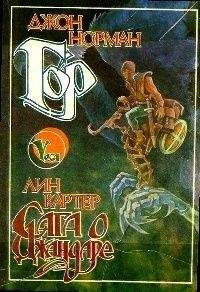Ухабистый проулок привел их к металлическим воротам заднего двора, где стоял посреди застывшей грязи сарай с односкатной крышей. В тусклом свете из окна бара обозначилось громадное светлое тело животного, которое сидело как человек и глодало ногу оленя, держа ее обеими лапами. Лира разглядела окровавленную пасть, морду со злобными черными глазками и гору грязного, свалявшегося желтоватого меха. Еда сопровождалась отвратительным рычанием, хрустом и чавканьем.
Фардер Корам остановился в воротах и крикнул:
– Йорек Бирнисон!
Медведь перестал есть. Насколько они могли понять, он смотрел прямо на них, но морда его при этом ничего не выражала.
– Йорек Бирнисон, – повторил Фардер Корам. – Можно с тобой поговорить?
Сердце у Лиры громко стучало: от этой фигуры веяло холодом, опасностью, грубой силой, но силой, управляемой разумом, только не человеческим разумом, совсем не человеческим, потому что у медведей, конечно, нет деймонов. Ничего подобного этому исполину, грызшему мясо, она вообразить не могла, и восхищение мешалось в ее душе с жалостью к этому одинокому существу.
Он бросил ногу северного оленя в грязь и на четырех лапах притопал к воротам. Там он поднялся во весь свой трехметровый рост, словно показывая, как он могуч и какой жалкой преградой были бы ему эти железные ворота. И оттуда, сверху, заговорил:
– Ну? Кто вы такие?
Голос у него был такой низкий, что, кажется, сотрясал землю. Запах от него шел невыносимый.
– Я Фардер Корам, из цыганского народа Восточной Англии. А эта девочка – Лира Белаква.
– Что вам нужно?
– Мы хотим предложить тебе работу, Йорек Бирнисон.
– У меня есть работа.
Медведь снова опустился на четвереньки. Очень трудно было понять его интонацию – рассержен он или иронизирует, – настолько ровен и низок был его голос.
– Что ты делаешь в санном депо? – спросил Фардер Корам.
– Чиню сломанные механизмы и железные изделия. Поднимаю тяжелые предметы.
– Что это за работа для панцербьёрна?
– Оплачиваемая работа.
Позади медведя приоткрылась дверь, и человек поставил на землю большой глиняный кувшин, после чего, прищурясь, поглядел на них.
– Кто это?
– Чужие, – сказал медведь.
Бармен как будто хотел задать еще один вопрос, но медведь вдруг подался к нему, и он испуганно захлопнул дверь. Медведь продел коготь в ручку кувшина и поднес его ко рту. Пахнуло резким запахом неочищенного спирта.
Сделав несколько глотков, медведь поставил кувшин на землю и снова принялся обгладывать ногу, словно забыв о Фардере Кораме и Лире; но потом он заговорил:
– Какую работу вы предлагаете?
– Войну, по всей вероятности, – ответил Фардер Корам. – Мы отправляемся на Север, искать место, куда увезли наших детей. Когда мы найдем его, придется вступить в бой, чтобы освободить детей; потом мы привезем их домой.
– И что вы заплатите?
– Я не знаю, что предложить тебе, Йорек Бирнисон. Если тебя устраивает золото, у нас есть золото.
– Не годится.
– Как тебе платят в санном депо?
– Мясом и спиртным.
Молчание; он бросил обглоданную кость, снова поднес к морде кувшин и стал пить крепкий напиток, как воду.
– Извини за вопрос, Йорек Бирнисон, – сказал Фардер Корам, – но ты мог бы вести свободную и гордую жизнь во льдах, охотясь за тюленями и моржами, мог бы пойти на войну и добыть большие трофеи. Что привязывает тебя к Троллезунду и бару Эйнарссона?
У Лиры мурашки поползли по спине. Такой вопрос был почти оскорблением – она подумала, что это громадное существо придет в бешенство, и удивилась смелости Фардера Корама. Йорек Бирнисон поставил кувшин и подошел к воротам, чтобы заглянуть в лицо старика. Фардер Корам не дрогнул.
– Я знаю, люди, которых вы ищете, – деторезы, – сказал медведь. – Позавчера они поехали из города на Север, опять с какими-то детьми. Никто вам про них не расскажет; все делают вид, что ничего не видели, потому что деторезы дают деньги и работу. Ну, а я их не люблю и отвечу на твой вопрос вежливо. Я живу здесь и пью спирт, потому что здешние люди украли мою броню, а без нее я могу охотиться за тюленями, но не могу воевать – я бронированный медведь, война для меня – море, где я плаваю, и воздух, которым дышу. Здешние люди дали мне спиртного и угощали, пока я не уснул, и тогда уволокли мою броню. Если бы я знал, где ее спрятали, я бы весь город разнес, чтобы ее достать. Хотите, чтобы я вам служил, цена такая – верните мне броню. Сделайте это, и я буду воевать за вас, либо пока не убьют, либо пока вы не победите. Цена – моя броня. Получу ее, и мне больше не понадобится спиртное.
Когда вернулись на корабль, Фардер Корам, Джон Фаа и другие вожди долго совещались в салоне, а Лира пошла к себе в каюту посоветоваться с алетиометром. Через пять минут она точно знала, где спрятана броня медведя и почему ее трудно будет достать.
Сперва она хотела пойти в салон и сказать Джону Фаа и остальным, но решила, что если они захотят знать, то сами спросят. А может быть, уже знают.
Она легла на койку и стала думать об этом могучем медведе, о том, как беспечно он пил огненную жидкость, о том, как ему одиноко живется в грязном сарае. Совсем другое дело – быть человеком: всегда с тобой деймон, с ним можно поговорить! В тишине, без привычных скрипов металла и дерева, без гула машины и плеска воды за бортом, Лира уснула, и Пантелеймон – тоже, рядом с ней на подушке.
Ей снился ее замечательный отец в тюрьме, и вдруг, без всякой причины, она проснулась. Непонятно было, который час. Через иллюминатор в каюту проникал слабый свет, лунный, решила она, – он освещал сваленную в углу теплую одежду. Лира увидела ее и сразу захотела снова примерить. Когда оделась, пришлось пойти на палубу, и через минуту она уже открыла дверь на верху трапа и вышла наружу.
В небе творилось что-то странное. Она подумала, что это облака, как-то странно волнующиеся, но Пантелеймон шепнул:
– Аврора!
Чтобы не упасть от изумления, она схватилась за поручни.
Небо на севере было озарено сиянием немыслимого размера. Откуда-то с высоты свисали огромные волнующиеся занавеси мягкого света. Бледно-зеленые и розовые, прозрачные, как самая тонкая ткань, с багровой каймой по низу, будто отсветами адского пламени, они колыхались и изгибались грациознее любой балерины. Лире казалось, что она даже слышит их: необъятный далекий свистящий шорох. В их нежности и неуловимости чувствовалась какая-то глубина – примерно такое же ощущение испытала она вблизи медведя. Она была растрогана этой красотой, этим почти святым сиянием; глаза щипало от слез, и свет радужно дробился в слезах. Очень скоро она впала в такое же полуобморочное забытье, как при общении с алетиометром. Быть может, спокойно думала она, то, что движет стрелкой алетиометра, заставляет светиться и Аврору. Быть может – сама Пыль. Она думала об этом, не замечая, что думает об этом, и скоро забыла, а вспомнила лишь много позже.