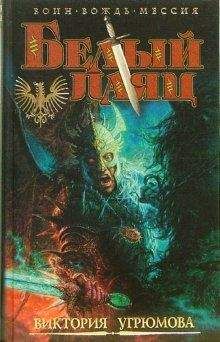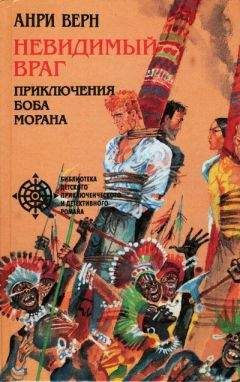– Я не прошу. Я приказываю. Ты обязан покориться моей воле.
– Хорошо, пусть будет по-твоему, я покорюсь. Но как ты заблуждаешься!
– Пусть даже и так. Лучше на моей совести будет одна невинная загубленная душа, чем то, что нам предстоит, если я послушаю тебя. Мы не имеем права на бездействие.
– Порой мне кажется, что твой сын был прав во всем.
– Не накликай беды на свою глупую голову. С тобой может случиться то же, что и с ним. Не медли же. Ступай… Тебе предстоит долгий путь.
– Но все-таки…
– Оставь пустые споры и ненужные сомнения. Он совершит то, что ему предназначено. Не сможет не совершить, даже если и захочет. Это у него в крови.
– Но кровь эта – твоя.
– Вот чего я больше всего боюсь. Не допусти катастрофы. Иди, найди его и убей не колеблясь.
– За последнее не ручаюсь.
– Просто исполни свою работу.
– Моя работа – нести добро и свет…
– …с мечом в руках. Ты думаешь, что можно пойти против своей природы? Увы, мой мальчик… Ну, иди уже. Не люблю долгих проводов. Прощай.
– Постой. А как я отыщу его?
– А вот это точно твоя работа.
Это был бы вполне обыкновенный разговор, если бы в его конце один из собеседников не расправил могучие серебристо-серые крылья и не полетел в задумчивости над лугом, едва не касаясь носками золотых сандалий тяжелых от утренней росы, полураскрытых чашечек заспанных цветов.
* * *
В подвале было душно, чадно и омерзительно пахло потом, мочой и кровью.
Помощник палача усердно драил пол ветошью, не столько убирая, сколько размазывая грязь; но было ясно, что делает он это напоказ, первый и чуть ли не единственный раз за всю карьеру, сообразуясь, вероятно, с присутствием высокого начальства. Из-под съехавшего набок красного колпака с прорезями для глаз доносилось недовольное бурчание.
Впрочем, несправедливо было бы пенять ему за нерадивость. Тошнотворный запах навсегда въелся в инструменты, бурые от крови фартуки, пыточное кресло и каменные плиты, давно утратившие первоначальный цвет.
«Новичок, – лениво подумал Берголомо. – Чересчур суетится и старается напоказ. Выслуживается. Не знает здешних неписаных правил».
Кстати, это вовсе не означало, что заплечных дел мастер привлек его внимание. Мысли текли сами по себе, как вода в ручье, и вряд ли логофет подозревал, что думает о копошащемся в камере человеке.
Тело уже унесли.
Дознание закончилось. Он выяснил все, что хотел, и теперь ему предстояло несколько неприятных, но совершенно неотложных дел. Нужно бы кликнуть охрану и ехать во дворец, но сил пошевелиться не было, и падре Берголомо по-прежнему сидел в кресле за ширмой, по-детски поджав ноги и прижимая к животу огромный том в потертом кожаном переплете цвета королевского багреца. В животе будто бы лежал тяжеленный ледяной камень и мешал дышать и двигаться.
Проклятая книга жгла ему руки.
Он ненавидел себя в те дни, когда обстоятельства вынуждали его присутствовать при допросах «с высшей степенью расположенности к откровению», – а обстоятельства вынуждали нередко. Еще неделю спустя он бывал разбит и мрачен, но угрызения совести и сомнения являлись делом сугубо личным, и великий логофет не допускал, чтобы обычные человеческие слабости как-то влияли на отправление правосудия. Высшие интересы порой требовали от него быть безжалостным и жестоким, и он становился таким, как бы это ни было противно его природе.
С тех пор как он занял высший церковный пост в Охриде, прошло больше четверти века. Больше четверти века почти каждую ночь его преследовали тени несчастных, которых он обрек на мучительную смерть. Он слышал их вопли, стоны и проклятия и слово в слово повторял их признания. Еженощно он оплакивал их – сгинувших без следа в подземельях Ла Жюльетт, и содрогался от мысли, что уготовил им такую судьбу. Его не утешали привычные Доводы: дескать, казненные были еретиками, врагами церкви и государства, а потому получили по заслугам. Каждый день падре Берголомо спрашивал себя: а что сам он сказал бы палачу с раскаленными клещами в руках, какую правду – ту, что знал, или ту, что от него желали услышать? Он спрашивал – и все не находил ответа.
Когда-то давно, в юности, он истово верил и желал всего себя, без остатка, посвятить служению Пантократору. Он ненавидел зло и мечтал искоренить его. Как счастлив был бы молодой монах-котарбинец Берголомо, если бы ему сказали, что придет день и он станет великим логофетом Охриды, величайшим церковным сановником во всей Медиолане, над которым нет иной власти, кроме власти вседержителя.
Он был бы счастлив потому, что не знал тогда правды.
Порой логофет думал, что не знает всей правды и сейчас.
Истина на поверку оказалась неприглядной, уродливой и убийственной для всех, кому не положено ее знать. Этих она уничтожала немедленно и беспощадно, обрушивая на них карающий меч закона. Однако со временем выяснилось, что она убивает и тех, кому разрешена. Просто в этом случае все происходит исподволь, незаметно, но оттого не менее неотвратимо. Правда выгрызала изнутри, оставляя вместо человека пустую оболочку, слепо повинующуюся своим обязанностям и чувству долга.
Иногда ему грезилось, что он тоже уже не существует, умер, вот только ничего не изменилось в мире, забытом Пантократором, и ему суждено вечно сидеть в потайной нише камеры пыток, ежась в холодном каменном кресле за черной ширмой, и тревожно ощупывать пальцами незнакомое опять лицо, перекошенное мукой сострадания и вины.
Это было кощунственно, но, когда тебе далеко за семьдесят и ты столько повидал на своем веку, кощунство уже не представляется чем-то недопустимым. Это просто один из синонимов сомнения. А сомнения появляются только на благодатной почве веры.
Логофет снова провел трясущимися пальцами по морщинистой, обвисшей щеке. И тонкие, почти белые губы сложились в ироничную усмешку: он снова не признал себя. Жизнь пролетела незаметно и как-то мимо него. Он и опомниться не успел, как молодой статный красавец превратился в согбенного старца с выцветшими голубыми глазами, которые постоянно слезились то от холода, то от жары, то от усталости; как и следа не осталось от пышной рыжей шевелюры и вечно мерзнущую макушку покрыл жиденький седой пушок. Время скрючило пальцы, согнуло спину, отняло иллюзии и вместо них вручило свой самый страшный дар – тревожное ожидание конца.
Ему никто не рассказывал, а сам он спросить стеснялся и потому не знал, так ли себя чувствуют другие старики, или только его обвела вокруг пальца насмешливая судьба, поманив золотым сиянием и оставив ни с чем.
Или это он многое обещал, многое получил, но обещанного не выполнил.