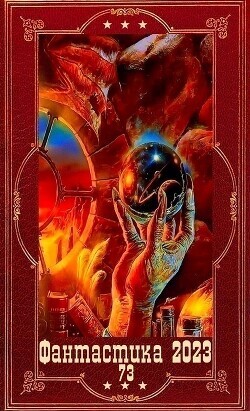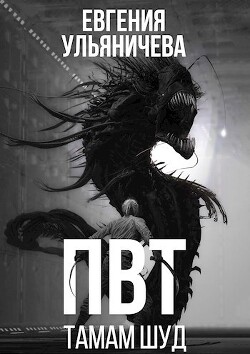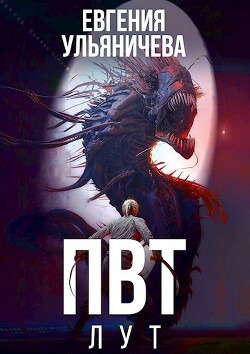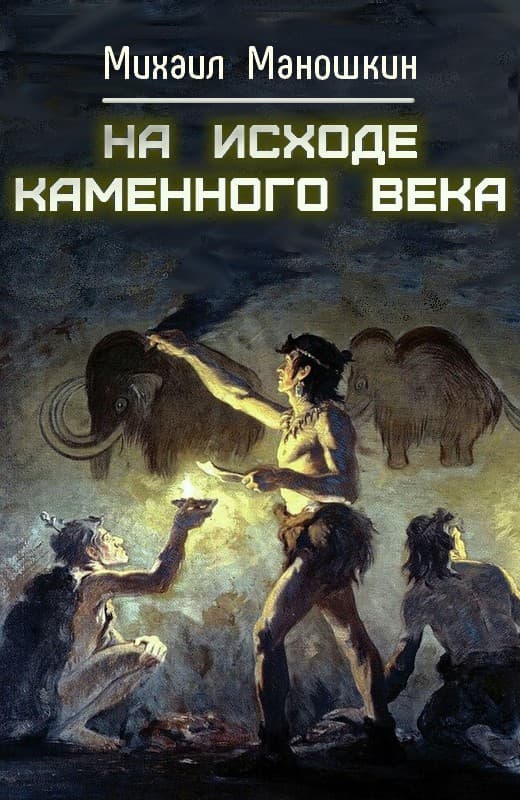душка. Довольно засветилась, в прозрачных крыльях виднелись черные паутинные косточки. Ради них душек вываривали, а полученный экстракт после продавали по большой цене. Выпь слышал, что он дарит легкость жизни и дыханию. Уходить садовник не торопился, глаза его настороженно поблескивали.
— Ну, а что если она из этих…
— Из каких?
— Из Ивановых поделок, — понизив голос, опасливо поделился Юга.
Выпь лишь фыркнул.
— Как? Мы здесь, а Ивановы там где-то. Сами по себе.
— И очень просто! — запальчиво вскинулся Юга. — Девчонка сама же сказала — заблудилась! А то ты не знаешь, что если заблудишься, то куда угодно попасть можешь, даже… к Ивановым.
Выпь призадумался. Сам-то он к этим местам тоже приблудился. Оглядел девочку. И сколько же она у сладня провела?
Спросить, как проспится.
Или не спрашивать.
— Еды я прихватить не догадался, — с досадой вымолвил Юга, перебирая бусы на шее, — у тебя есть что?
— Немного, — спохватился пастух.
Пропитанием он сильно не заморачивался, неприхотлив был. В Доме, пустующем несколько пальцев кряду, запасов не держал. Твороп весь извел. Почесал в затылке.
— Староста позвал. Праздник у него. Там еды прихвачу. Ты идешь?
Юга глумливо усмехнулся:
— Мой выход последний, важным людям в подарок, в отдохновение.
Выпь кивнул, про себя удивившись — ну какой из Юга подарок, с его-то нравом-норовом.
— Ну, я пошел тогда. Удачи с девчонкой, пастух.
— Ага. Спасибо.
— Обращайся, — хмыкнул Юга, прекрасно зная — не обратится.
К Дому старосты Выпь добрался с изрядным опозданием. Пустили его без расспросов, сразу провели в обеденную, где уже не продохнуть было от гостей и обильной еды. Робел поначалу, но скоро освоился, пристроился в шестом углу, откуда и вид был хороший, и об него самого глаз не спотыкался.
Гуляли знатно, одного огня было клетей десять, да еще пара чаш. Веселили собравшихся приглашенные ваганты, гости пели и плясали, ели и пили за здоровье хозяина и домочадцев. Младшая дочь нарядной бездвижной куклой сидела на почетном месте, под охраной матери и тетки. Не смела шелохнуться, изредка моргала тупо, опоенная каменным порохом. Сестер ее староста успешно сбавил из Дома за важных людей, за большие дарцы, и нынче прогадать не хотел. Прибывшие нови в разговорах уже разобрали по косточкам и девушку, и гул, и самого хозяина.
Выпь скучал. До тех пор, пока к нему не пробрался услужник с вестью: староста к себе требует.
— Хорошо, — буркнул пастух, испытывая некую даже благодарность к холеному, сытенькому слуге Дома, потому что изображать ветошь под любопытными взглядами делалось все труднее.
Староста ждал его на черном дворе, в кругу нескольких уважаемых гостей и стылой пустоглазой тьмы. Огонь в уличных клетях дрожал под вспышками крепнущего ветра, тени людей вытягивались, мазали узорчатые стенки красного улья.
— Вот и пастух наш, парень толковый! — радостно представил его староста.
Гости с интересом оглядели Выпь, с сомнением переглянулись:
— Молод больно… — Протянул налитой мужик в богатой одеже и с багровой рожей. На пузе у него хвастливо лежало ожерелье-низка из дарцов. Взялся под бока. — У нас вон все пастухи раза в полтора и старше, и опытнее, и с плетьми-подсеками не расстаются, да и то не всегда с гулами ладят, а этот-то разве потянет? Ииии, сомнительно мне что-то.
— А вот я вам, гости дорогие, все и покажу-докажу. Ну-ка, ну-ка…
И ухватился за резной засов, крепящий створцы улья.
— Нет, — вырвалось у Выпь. На него удивленно обернулись. Не по чину заговорил, да смолчать не мог, продолжал хрипло, — нельзя. Матка выходит, нельзя тревожить. Худо будет.
Гости обменялись взглядами, заулыбались.
Хозяин же нахмурился, начиная сердиться. Ударил тяжелым кулаком в стенку улья.
— Или ты мне указывать вздумал? Забыл, кто тебе платит, кто тебя в стане приютил?
Выпь сглотнул.
— Не забыл. Потому и говорю — не выпускайте.
— Или боишься?
— Боюсь, — честно признался Выпь.
Присутствующие грянули смехом. Пастух никак не мог растолковать их гонор: здоровые мужики ведь все были, о гулах знали, о матках тоже наверняка слышали.
Вспомнил, как уважаемый тио отводил гостей к себе в горенку, как возвращались те после — со странным неживым блеском в глазах. Вспомнил тонкие пустотелые стеклянные травинки, тонкомолотый порошок-порох — забаву из Городца, до которой его наниматель сделался большим охотником.
Староста, посмеиваясь, убирал засов. В стенки улья тяжко бился встревоженный гул. Выпь отступил, соображая, что предпринять. Чтобы без урона для чести и жизни гостей.
— Вот и покажешь, зря ли я тебя тут все веко нахваливал, да не зря ли вообще Дом дал, камнями-молотами прочь не погнал…
— Хорошо. Покажу. — Выпь поднял руки, признавая волю хозяина. — Только вы уйдите. В Дом. В окно смотрите.
— А-ха-ха, вот бестолковый! Или мы бабы трусливые, от овдо толстобоких прятаться?
Староста разомкнул створцы — и гул потек черной водой. Овдо за овдо, сплошной гладкой цепью выходили в темноту злые, взбудораженные особые. Выпь, стараясь не показывать волнения, не пахнуть страхом, встал сбоку, отслеживая каждого. Была затея — узнать матку, будущий осередок роя, подхватить и спрятать. А тогда и гул бы повертелся-повертелся, да ушел обратно, мирно спать.
Гости же хохотали, орали, пьяно взмахивали руками, шугая овдо.
— Ну и крупные они у тебя! Почище моих будут!
— А то, знай, из какой семьи девку берешь…
— Ну а по мне — шелюзга, стоило ли бахвалиться! — заявил другой гость и наподдал блестящим сапогом в бок ленивому овдо, вьющемуся у земли.
Тяжелому, крупному, с еле приметной светящейся линией по хребту — местом будущего разлома-деления.
Выпь покрылся липким, холодным потом.
Гул взвился, как смертельно оскорбленный человек, гостя вмиг объял пляшущий черный факел. Плеснул — и распался, в куски, в клочья растащив мужика. Второй гость повалился на спину, бессвязно закричал, бестолково замахал руками — накрыло и его.
Дикий вскрик срезало под корень.
Выпь оскалил зубы и запел: зарычал, низко завыл, голосом, как давильным камнем прижимая к земле взбесившийся гул. От натуги во рту сделалось солоно, а гул все метался, не в силах подняться выше, стреноженный сторонней волей, разрывался между ярением и приказом извне.
Наконец, сдался, медленно потек обратно в улей. Выпь, не обрывая песни, прикрыл створцы, сдвинул засов — и стала тишина.
Глухо ворчал, стучал в стены обиженный гул. Староста сидел на земле, таращился на своего пастуха. Скреб пальцами. Словно восковина забила ему уши, словно разумник унес сознание — ужас студнем застыл в открытых глазах, сковал члены немотой. Губы развалились, на нарядной бороде блестела слюна.
Выпь посмотрел. Выдохнул. И, не оглядываясь, быстро зашагал к