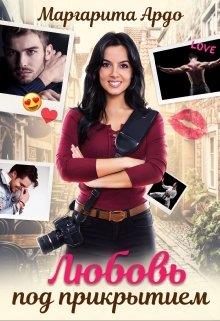с этим человеком Кире скорее нравилось, чем наоборот.
– Но… – засомневалась она, снова взглянув на себя в зеркало. – Ты не думаешь, что все это как-то слишком?
– Ничуть, – возразил он. – Мне кажется, в самый раз.
«А мне нет…»
Платье облегало ее тело, подчеркивая по-прежнему модный силуэт: удлиненная стройная фигура, с узкими талией и бедрами. Вот разве что грудь несколько ломала образ кинодивы, возникший еще в начале сороковых годов. К этой фигуре полагалась небольшая грудь, а у Киры она была заметно больше установившегося стандарта. И все равно красиво. Платье несколько расширяется книзу, что позволяет свободно двигаться и даже танцевать. Высокие каблуки бальных туфель делают Киру даже выше, чем она есть на самом деле, хотя сможет ли она на них танцевать – один большой вопрос.
– Сможешь! – утверждает Яков. – Ты же истребитель, Кира! Тебе ли пасовать!
«Мне ли пасовать…»
Когда-то Кира умела танцевать. Этому обучали в гимназии, да и в училище имели место быть уроки танцев, и Кира вальсировала едва ли не со всеми курсантами ее роты. Другое дело, что было это давно. Почти десять лет прошло. И танцевала она тогда в ботинках и отнюдь не в платье. Однако за последние дни Кира вроде бы снова научилась уверенно ходить на каблуках. А вот как на них танцевать, попробовала только пару раз…
– Не свалиться бы во время танца…
– Не свалишься! – успокоил ее Яков. – Садись, – кивнул он на полукресло, поставленное перед трюмо, – будем выбирать драгоценности.
«Выбирать», – смиряясь с неизбежным, констатировала Кира, но все-таки оставила свой скепсис и свою растерянность без комментариев вслух.
Села в кресло и приготовилась выбирать. Вернее, позволила это сделать самому Якову. Он явно лучше разбирается в предмете, и, кроме того, это ведь его фамильные драгоценности, ему и решать. Ну, он и решил, да так, что Кире мало не показалось. Все-таки Курбские древний род. «Старые деньги», «другой уровень богатства», как пишут газетчики о старой, но не утратившей своих позиций аристократии.
«Но я-то нет!»
Однако отражение утверждало обратное, и Кире от этого становилось неловко. С одной стороны, ей было стыдно за «притворство» – притворяться кем-то, кем ты на самом деле не являешься, сродни воровству, – с другой же стороны, Кире было неловко за то, что «этот театр» ей нравился. Где-то так…
Однако, если это все-таки сказка, то все должно быть именно так и никак иначе. Золушка – пусть и на одну только ночь – становится принцессой, и Кира видела сейчас в зеркале именно принцессу: высокую стройную женщину, рыжеватую брюнетку с синими глазами, одетую так, как одеваются только очень богатые женщины, обладающие к тому же хорошим вкусом. Минимум грима – немного на веках и ресницах и чуть больше на губах, белая кожа, элегантно уложенные волосы, со вкусом подобранные драгоценности, не затмевающие Кирину внешность, а лишь подчеркивающие ее, и, наконец, горжетка из огненной лисы, заставлявшая глаза казаться темнее и зажигающая в волосах огонь осени.
– Красавица!
– Ты это уже говорил!
– Ну и что?
– Да ничего, наверное, – пожала она плечами, оборачиваясь к Якову. – На самом деле, приятно. Можешь повторить…
Сегодня, по случаю посещения Зимнего дома, Яков был одет в свой адмиральский мундир. Черная, как ночь шерстяная ткань, золотое шитье, орденские колодки в три ряда и «Полярная звезда» под узлом галстука. Он не стал от этого лучше, но и хуже не стал. Оставался прежним. Таким, каким понравился Кире еще во время их первой встречи…
* * *
Кто побывал в «собачьей свалке» – никогда этого не забудет. Такое не забывается, если что. И Кира, разумеется, не исключение. Она помнила все свои четыре, но впечатлениями этими с посторонними людьми предпочитала не делиться. Разве что спьяну, но и то скорее, как исключение, чем как правило. И вот среди этих ее «не произносимых вслух» личных тайн имелось одно воспоминание, о котором Кира не рассказывала вообще никому и никогда, ни на трезвую голову, ни в полном помрачении, хотя случай был отнюдь не омерзительный. Пожалуй, даже наоборот, но осадок по себе оставил такой, что, припомнив его ненароком, Кира всегда ощущала озноб.
Дрались с янки. И дрались не просто жестко – жестоко. «Обид» с обеих сторон накопилось немерено, это да. А вот день был почти нелетный – пасмурно, облачно, ни то ни се, – но надо же, вылетели с баз и не разминулись, как бывает сплошь и рядом, встретившись над морем, над стылой водой. Сблизились – все еще оставаясь в разуме, то есть в рамках уставов и наставлений, которые у тех и других отличались лишь в деталях, – сошлись по правилам: высота, дистанция, эшелон… И вдруг сорвались с цепи, аки бешеные псы…
«Понеслось!» – подумала тогда Кира, выполняя боевой разворот, и разом забыла обо всем. Она перестала быть человеком, женщиной, пилотом, превратившись в суку, грызущуюся с чужой стаей не на жизнь, а на смерть. В душе – ад, в глазах кровавый туман, сквозь который «вплывают» в прицельную сетку размытые тени врагов, рев мотора, рвущийся, казалось, вместе с криком из ее собственной глотки, грохот пулеметов и глухое уханье пушки, и барабанная дробь артериального пульса в ушах… Ее несло потоком. Швыряло, как щепку. Крутило, словно не Кира вела бой, а сам бой играл с ней как с игрушкой, и как надоевшую игрушку вышвырнул, в конце концов, из собачьей свалки вон. И она вылетела вдруг в голубой, пробитый солнечными лучами простор, и обомлела от ужаса и восхищения, теряя голову и чувство направления и начиная падать вверх, в пронизанную золотыми лучами бездонную синь… И в этот момент Кира увидела глаза Бога. Во всяком случае, так она запомнила тот случай. Тишина – у ее истребителя внезапно заглох мотор, медленное, но неумолимое падение в сияющее надоблачное ничто и золотые глаза, заглядывающие в самую глубину души…
Киру привел в чувство озноб, пробивший ее, несмотря на то, что до этого мгновения она, фигурально выражаясь, купалась в собственном горячем поту. Непривычное чувство отрезвило и выдернуло из оцепенения. Кира пришла в себя и успела-таки перезапустить двигатель, прежде чем неумолимая сила гравитации разбила ее о холодную сталь арктических вод…
…Вспомнилось неспроста, хотя и не почувствовать разницу было бы сложно. Просто музыка – кажется, это был Большой вальс Оффенбаха – закончилась, и настала тишина «послевкусия», образованная слитным гулом вполголоса произнесенных слов, шелестом шелковых платьев и осторожным перестуком высоких каблуков. Кавалер – какой-то гренадерского сложения штатский с орденской лентой через плечо –