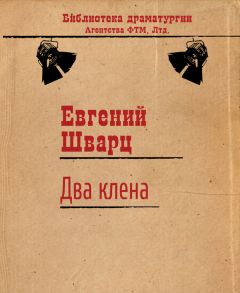правде, ответом я хотел продемонстрировать вежливость, не более. И вот — попал впросак, выставил себя наглецом.
Когда же я пойму главный закон бесед с вышестоящими? Если собеседник что-то тебе предлагает, это вовсе не значит, что ты должен хватать это обеими руками.
— Печать храма То-дзи в Киото, — объяснил Цугава. — А также изображение бога Дзидзо, обутого в сандалии.
— В сандалии?
Дзидзо, избавителя от несчастий, всегда изображали босым.
— Это значит, — вне сомнений, Цугава получал удовольствие от рассказа, а значит, я мог не волноваться, — что Дзидзо может лично прийти к обладателю амулета и исполнить его желание. Также в амулете хранится пожелание счастья и процветания, сделанное неким монахом, художником и каллиграфом, для моего предка. С того дня минуло много лет.
— Пожелание счастья?
— Там написано: «Дед умер, отец умер, сын умер, внук умер!»
— Не сочтите за грубость, Цугава-сан, — у меня отвисла челюсть. — Но это точно пожелание счастья?
Гость улыбнулся:
— Мой предок задал тот же вопрос. Монах ответил: «Разумеется! Это же естественный ход жизни. Или вы предпочитаете, чтобы эти события происходили в другом порядке?» С тех пор копии благожелательной записи хранятся в амулетах всех членов нашей семьи, рядом с изображением Дзидзо.
— Цугава-сан, — вмешался старший дознаватель. — Не будете ли вы столь любезны повторить ваш рассказ? Пусть наш дознаватель выслушает эту историю из первых уст, а не в моём сбивчивом пересказе.
— Конечно, — согласился Цугава. — Не могу сказать, что я сделаю это с радостью. События, произошедшие в моём доме, странные и зловещие, мне больно о них говорить, тем более дважды. Но стойкость в бедах — качество истинного самурая. Рэйден-сан, вы стойки в бедах?
— Он стоек, — за меня ответил Сэки Осаму. — Болтлив, но стоек. Прошу вас, Цугава-сан, мы слушаем.
3
Мне следует помалкивать
Прошлой ночью господина Цугаву разбудил подозрительный шум.
Звуки, природу которых Цугава не мог определить, доносились из главной залы, где совершались семейные церемонии. Совершались они днём, иногда — на рассвете или вечером, перед заходом солнца, но ещё не бывало, чтобы кто-нибудь из семьи Хасимото возносил мольбы у алтаря предков по ночам. Звать слуг господин Цугава не стал, справедливо опасаясь, что его сочтут трусом, и отправился в главную залу, полон раздражения.
В зале он обнаружил своего сына.
Младший господин Ансэй, единственный ребёнок и наследник Цугавы, стоял на коленях у алтаря. Сперва Цугава не понял, чем занят Ансэй, и хотел прикрикнуть на сына, но крик застрял у него в горле. На алтаре горели свечи, пол был застелен циновкой с белой каймой, которая в свою очередь была покрыта белым войлоком, а сам молодой человек обнажился до пояса и держал в руках малый меч.
Сомнений не осталось: Ансэй вознамерился покончить с собой.
Господин Цугава не знал ни одной причины, которая бы могла побудить сына свести счёты с жизнью. Позор? Нет, невозможно. Обида? Оскорбление? Глупость, немыслимая глупость! Единственное, что приходило в голову — это мужское бессилие. Меньше месяца назад в доме Хасимото сыграли свадьбу, взяв за Ансэя девушку из достойного самурайского клана, укрепив тем самым положение обеих семей — и господин Цугава был уверен, что сын разделяет его удовлетворение. Судя по звукам, доносившимся ночами из комнаты молодожёнов, с любовными играми дело обстояло удачно, но мало ли? Юности свойствена горячность. Иногда вместо того, чтобы обратиться к лекарю или просто дать телу отдохнуть денёк-другой, дурачок хватается за меч, полагая, что жизнь окончена.
Терзаясь догадками, Цугава словно окаменел. И пропустил тот момент, когда Ансэй воткнул клинок себе в живот.
Нет, не воткнул. Полоснул лезвием поперёк живота, как если бы его подвела рука. Надрез вышел неглубоким, безопасным для жизни, хотя кровь и пролилась, пятная войлок. Ансэй застонал, отводя меч для нового, возможно, смертельного удара — и Цугава, пробудившись от раздумий, вихрем сорвался с места.
Мешать самураю, вознамерившемуся покончить с собой — дело недостойное. Но об этом глава семьи вспомнит потом — и зальётся краской стыда. Сейчас же Цугава без размышлений сбил сына на пол, навалился сверху и попытался отобрать у юноши меч. Это оказалось делом трудным, почти невозможным. Наследник, который ранее не проявлял ни рвения, ни особых талантов в воинских искусствах и верховой езде, превратился в бешеного зверя. Рвался на свободу, любой ценой желая продолжить обряд харакири [29], выкрикивал что-то насчёт чести и позора, верности господину и верности семье. Он даже рассёк отцу левую руку; к счастью, это было не страшней обычной царапины.
Кто знает, справился бы господин Цугава с обезумевшим сыном или дело кончилось бы гибелью одного из борцов, но в залу, услыхав шум, вбежали слуги. С их помощью удалось скрутить и связать юношу, после чего Ансэя перенесли в отдельные покои. Там он сразу же погрузился в сон, мало чем отличавшийся от сна смертного — и не проснулся, когда ему промывали и перевязывали рану.
Лекаря звать не стали, опасаясь огласки.
Перевязали руку и Цугаве. Впрочем, в отличие от сына, он не заснул до утра. Едва дремота стаей ворон опускалась на поле утомлённого разума, Цугава как наяву видел похороны сына — и садился на ложе, тряся головой будто немощный старец. Или того хуже, ему мерещилось, что он не сдержался в схватке, убил сына — и теперь Ансэй живёт в теле отца, управляя делами семьи. А может, это сын убил его, чтобы сойти в ад, оставив несчастному родителю своё молодое здоровое тело, как наказание и напоминание…
Встал господин Цугава совершенно разбитым. Как был, в нижнем кимоно, он поспешил в покои сына — и застал Ансэя в тот миг, когда тот с изумлением разглядывал свой перевязанный живот.
«Что это было? — спросил юноша. — Откуда эта рана?!»
Он ничего не помнил. Уверял, что ему снился кошмар. Описать кошмар Ансэй не мог, запомнились лишь смутные обрывки. Скорее чувства, нежели картины: позор, опасность, долг; обязанность покончить с собой. Почему, зачем, по какой причине — нет, не помнил. Узнав, как он боролся с отцом, увидев перебинтованную руку Цугавы, юноша устыдился сверх всякой меры. Пал на колени, бил поклоны. Затеял было старую песню о позоре и долге, сворачивая к необходимости вспороть себе живот, но отец строго-настрого велел ему замолчать и более не возвращаться к рискованной теме.
Безутешному Ансэю было даровано прощение.
Даже теперь господин Цугава не избавился от дурных мыслей. Тщательно допросил молодую невестку о том, что произошло между ней и мужем в злополучную ночь. Невестка клялась, что всё было как обычно. Утомившись после любовных игр, целью которых являлось, разумеется, не плотское удовольствие,