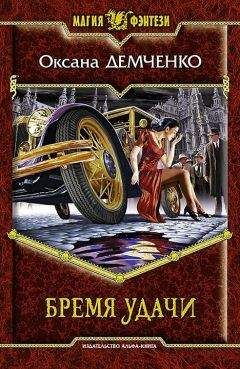– Пап, давай повторим. Став организатором праздника, я исключила для себя же возможность вмешаться иначе. Я не могла глядеть со стороны.
– Да, и утратила возможность повлиять извне, – уточнил Карл фон Гесс. – Иногда такое случается. Надо стараться избегать явных воронок, а попав в них, осознавать происходящее и ломать предопределенность. Логика и расчет против случая и наития, грамотно сформированного случая и хорошо натренированного наития. Рена, ты пока не имеешь опыта. Не казни себя, мы все здесь, и мы справимся. Потапыч будет жить так долго, что успеет еще несчетное число раз поссориться с Соболевым и помириться. Его правнуки выкупят у Льва лысую волчью шубу и торжественно вернут прадеду.
Отец улыбнулся мне тепло и без прежней натянутости. И я подумала: мы все же миновали горлышко воронки. Я снова ощущаю фарзу свободно. Почти. Я восстанавливаюсь… она – тоже.
Возле театра было тихо, оцепление полиции плотной двойной цепью закрывало улицу в полусотне метров впереди, у поворота. После покушения всегда начинается игра в перестраховку и поиск тайных и хитрых врагов. Даже там, где их нет…
Мы нырнули в обшарпанный зев парадного, лишенного на время ремонта одной из дверей. Прошагали в главный зал по коврам, брошенным прямо на полугнилые доски старых полов и отбитую в ходе ремонта штукатурку. Было нечто воистину цыганское в кричащем сочетании роскоши, нищеты и беспорядка. Магические светильники наилучшие, ковры драгоценные, мебель антикварная. Кажется, вся обстановка особняка Соболева перекочевала сюда. Недостаток мест для зрителей восполнили за счет наспех сколоченных дощатых лавок и колченогих стульев – надо думать, выцыганенных в соседних домах и даже без хитрости добытых на помойках… Публика была под стать обстановке. Цыгане в шубах и шелковых рубахах, в драных ветхих штанах. Цыганки в новых платках и старых кофтах, все босиком – и Ляля уже, я уверена, сбросила туфли, ей так привычнее.
У самой сцены – десяток журналистов светской хроники и газетчиков. Двое во фраках сидели на расстеленных газетах. Еще один в старомодном костюме с кружевом, явно взятом у кого-то на один вечер, озирался и поминутно проверял свой тощий кошелек. В сторонке, у стены, удобно свернувшись калачиком, пьяно сопел главный столичный сплетник Завидовский, пишущий сразу в три журнала, что есть величайшее чудо и явная магия: трезвым и вменяемым его даже Семка ни разу не замечал…
Рату Соболева сидела на самом ровно установленном диване, по-северному поджав ноги и время от времени испуганно дергая бриллиантовое колье на шее – наверное, оно казалось удавкой. Студенты-маги гудели, бродили по залу, пробовали знакомиться с цыганками, пытались потрясти воображение окружающих исполнением несложных зрелищных трюков. Карл фон Гесс так и пояснил, оглядев этот многонациональный табор: безуспешно тренируются в исполнении домашнего задания за первый курс. Его опознали и чуть притихли. Арьянцы, два десятка практикантов из Дорфуртского университета, вскочили со скамеек и замерли навытяжку, у них дисциплина в крови и неустранима: декан есть существо высшее и непогрешимое, и это неоспоримо. Они ведь своего ректора вполне всерьез и с придыханием именуют святым Иоганном, да и нашего повадились уже звать святым Марком, он терпит, хоть и не рад. Впрочем, наши оболтусы и прозвище оспорили, и арьянцев высмеяли: точно как теперь, дергая за куртки и приглашая приступить к распитию чего-то загадочно булькающего и невидимого. Судя по мутности фарзы, похмелье предстояло нелегкое и не самое удачное.
Потапыч прошел через зал. Ему все нравилось, он отдыхал душой: часто ли первому министру удается посетить столь неорганизованное и непочтительное к его статусу общество? Соболев хитро прищурился и указал высокому гостю место рядом с Рату, сразу делая знакомство со своей семьей неизбежным, как и последующее примирение с Большим Михом.
Ляля убежала на сцену – ворох ковров, брошенных поверх наспех сбитого дощатого настила, кивнула Алмазовой. Екатерина Федоровна сидела в кресле у края настила, с прямой спиной, решительно поджатыми губами и дирижерской палочкой, явно волшебной: указания исполнялись неукоснительно. Свет потускнел. Все, кто не устроился или по недосмотру остался без места, уселись где пришлось, и наш несуществующий пока что цыганский театр стал театром.
Поскольку за один день невозможно подготовить концерт, Алмазова и не пыталась. Она сразу объявила: у душечки Ляли именины, она будет петь что пожелает и когда вздумает. Прочие же поздравят, поддержат и помогут. Голос у Ляли оказался удивительный. Для столь худенькой девочки, немыслимый. Довольно низкий, иногда с прорывающейся хрипотцой, и гитара новая на диво подошла к этому голосу… Я слушала, и иногда на глаза наворачивались слезы.
Но скоротечная история с покушением мешала по-настоящему близко принять происходящее и участвовать в нем. Хотя Геро подпевала, заодно даруя магию и раскрывая душу слушателей полнее для приятия звучания. Потапыч иногда взрыкивал в самых проникновенных местах. Рату тихо вздыхала, кутаясь в платок, кивала и без звука хлопала в ладоши. А я оглядывалась и хмурилась. Зачем я все это устроила? Зачем? И что имела в виду Ляля, так искренне, даже с надрывом, потребовав праздника? Все получилось, и даже лучше, чем мы надеялись… Цыгане в Ликре издавна пользовались особым вниманием людей знатных и состоятельных. Был хор в «Яре» и еще несколько подобных. Красивые девушки порой выходили за купцов и даже князей. Но театра прежде никто не затевал – настоящего, постоянного и существующего не для ублажения пьющих и обедающих господ, а совсем иного, где пение и танец – искусство, равное признанному и традиционному. Ляля, может быть, потому и просила нас о празднике. Все же одно дело начинать на пустом месте, даже при деньгах и покровительстве Соболева. Совсем иное – получить заранее признание столичных журналов, славу и даже явное одобрение Самого. С Потапычем ведь мало кто решается спорить, он великолепен в своем медвежьем упрямстве. Его и ненавидят-то особенно, с уважением, переходящим в невольное восхищение. А он Ляле гитару подарил… Завтра это будет известно решительно каждому в Белогорске. То, что мы сделали, правильно! Так почему мне тревожно и как быть в следующий раз, когда душа потребует вмешаться, а долг – остаться в стороне?
Я нашла взглядом Хромова. Неугомонный Семка рассовывал деньги по карманам магов-акустиков. Все ясно: заказал сохранение звучания. Наши пластинки никудышные: шум и треск портят голос, лишают глубины и силы, живости и свободы, если не вовлечь в запись магов. Семка именно это теперь предусмотрел.