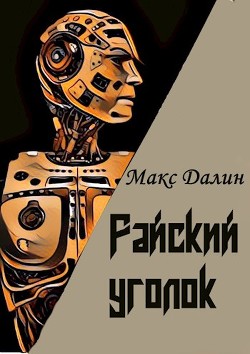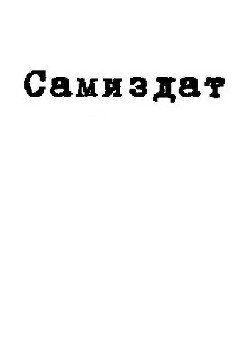– говорил такие вещи, какие евнухам не говорят вообще-то. Он мой господин, неплохой, в сущности, господин… Надо попробовать его полюбить хотя бы ради неё.
И себя ненавидеть не за что. Ведь знаю, что от этого только хуже. Вот так поговоришь с собой, помянешь Нут – оно и отпустит. Уже как будто и не так тянет забиться куда-нибудь в угол и выть там в голос о жизни своей разнесчастной.
А ведь не такая уж она у меня, тли, разнесчастная.
Ах, мне уши прокололи! Ах, нарядили в женские тряпки, накрасили глаза и пообещали солдат из свиты братьев Ветра! Гаденько похихикали? А что я ещё хотел от убогих: они же тут точно в том же положении! Да ладно, не в том же – хуже!
Меня, положим, бывало, лупили до полусмерти. Шакалы хозяев, деревенщина… Но с ними-то, с этими здешними куклами, если спокойно подумать, поступали и покруче – им же не просто так это всё в голову ударило! Тюльпан такой расфуфыренный, а усмехался так горько… Много ему счастья принесли эти побрякушки? Да эти дворцовые слуги ещё понесчастнее, чем я, чем мои знакомцы из деревни. А Изумруд ещё взял меня за плечо и подтащил к стене, на которой сушилась кожа какого-то бедолаги – только что носом туда не ткнул. Вот, мол, имей в виду: никто не гарантирован.
Ещё влажная шкура, между прочим. И, судя по старым рубцам, этого несчастного били не меньше, чем меня – тут, во дворце, среди всего этого золота, гранатов и прочего блеска. Ну-ну.
Конечно. Я ничего другого и не ждал. Евнухи есть евнухи. Люди в принципе никого не жалеют, а уж евнухов – в самую последнюю очередь. Прекрасно помню, как мне хотелось поговорить с кем-нибудь из настоящих мужчин, когда был ещё совсем уж мелкий и дурной – и как они на меня смотрели. Брезгливо, как на слизняка, как на крысу, которую колесо арбы раздавило, так что кишки наружу. И хоть бы кто не то чтобы пожалел, а хотя бы обратился без гадливости… нет! Не бывает такого. И женщины недалеко ушли: если надо на ком-то злость сорвать, то лучше меня и не выберешь. Меня презирать легко и приятно. Будто мне душу отрезали вместе с… Бесхвостый пёс, ага.
А другим евнухам дружить со мной тоже без надобности. У каждого – свои проблемы и болячки. Зачем я им сдался? Им же выживать как-то надо, выслуживаться. Выкручиваться как-то, чтобы пореже делали больно. Это лучше в одиночку, по себе знаю.
Так что они меня, конечно, изрядно поизводили сегодня, но они-то всегда так живут, а я – нет. Я же счастливчик сравнительно! Вот пришёл – а госпожа моя…
Госпожа моя… госпожа моя… был бы я настоящий, настоящий аглийе-полукровка, настоящий мужчина, настоящий боец! Целый, всё на месте… Ха, что я несу?! Да я бы мучился сильнее, чем сейчас, наверное! Вот смешно-то. Госпожа моя – царевна, а я – деревенский мужлан. Солдат, например. Шакал, ага.
Думать очень, очень полезно. Никогда бы Яблоня не позволила какому-то шакалу поганому до себя дотронуться. И никогда бы я её не увидел и не узнал, и не поцеловал бы её ручку ни разу, и косы бы не заплёл. И уж тем более она бы меня никогда не обняла. Так о чём я жалею? Вот потеха-то!
А Ветер мне сказал: «Ты – мой солдат. Дерись за неё». Евнухам таких вещей не говорят. А он ещё и дотронулся – не как эти мрази, шакалы, похотливые твари, а как до человека дотронулся. Как до… как до своего конюшего, к примеру. Или – до пажа. Без грязных мыслей и не брезгуя. И сказал: «Ты молодец».
Не смей его ненавидеть, не смей!
Он же принадлежит моей Яблоне. И малышу. И я помолился Нут, чтобы у них всё было в порядке. У меня от души отлегло потихоньку. И нож этот между рёбрами, от которого иногда ужасно больно ни с того ни с сего, тоже пропал. Дышать стало можно.
Я подумал, что все эти нервы и суета – из-за дворца, будь он неладен. Пока в Каменном Гнезде жили, настолько худо вроде бы ни разу не было. Если уж очень подступит – подышишь, и отпустит. Привык ведь уже к царевичу, смирился, успокоился… а тут опять откуда-то полезло.
Поганое место этот дворец.
Я минутку послушал их за дверью. Ну что, это надолго. Вряд ли позовут, думаю: зачем я им сдался? Фрукты, ти, лепёшки, мёд – всё у них там стоит около ложа; вода в кувшине, на столике шкатулка с персиковым маслом и благовониями. А Яблоня не любит, когда я суюсь некстати.
Ну и не будем соваться, ага.
Я решил заняться чем-нибудь полезным, чтобы не заснуть, и пошёл на женскую сторону, проверить малыша. Только малыш спал, и Сейад спала; я уже хотел рассердиться и разбудить её, чтоб охраняла как следует младшего царевича, но тут этот бледный кошмар – один из близнецов – высунулся из пустого воздуха, как из-за двери, и поднёс мне к губам холоднущий палец. Вроде знака, что всё под охраной. А я из комнаты выскочил и губы тёр-тёр, умылся и снова тёр – и всё равно такое чувство, что мертвеца поцеловал.
Умеет себе царевич солдат выбирать, ничего не скажешь.
Я хотел вернуться к дверям Ветра, но этот дворец просто громадный и весь из переходов, как лабиринт. Я долго блуждал, устал, пока в конце концов не вышел в похожее место. Смотрю: горят светильники в виде тюльпанов, дверь с резными жеребцами, ковёр с пурпурным узором, всё как надо… только запах померещился какой-то другой. Я, конечно, всего-навсего евнух, но на птичье чутьё это ни капли не влияет: вроде как чужими из-за двери тянуло.
Чужими мужчинами.
И меня вдруг как стукнет под ребро! Кто это там у них и как может быть?!
Я подобрался к двери, как смог, тихо – и прислушался. А за дверью услыхал голос царевича Орла и шаги взад-вперёд. Перепутал опочивальни по дурости, ага.
У меня от облегчения даже коленки мелко затряслись. Ну слава тебе, Нут, это не с Ветром-Яблоней что-то случилось, а просто я болван без памяти. Уже хотел идти, как вдруг слышу, Орёл говорит:
– Ты хоть понимаешь, какая это может быть беда?
А какой-то незнакомый, старый, но очень твёрдый голос ему ответил:
– Булат доложил Светочу Справедливости об одном голубе, мой царевич, – и