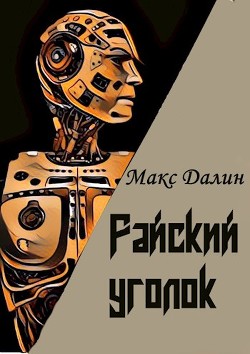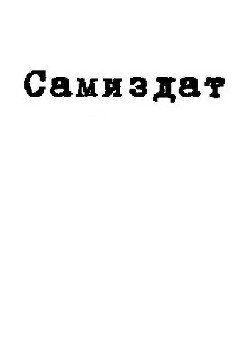на ночлег в удобном месте; там из земли бил ключик и стекал в ложбинку вроде овражка. Выставили часовых, спутали лошадей, привязали волов. Я проследил, чтобы рыженькую почистили, напоили и пустили пастись. Волкодавы принялись готовить ужин – запахло кашей с мясом и печёными на костре оладьями. Пока ставили походный шатёр, я и бароны, которых я уже едва мог видеть без отвращения, поужинали жареными цыплятами, великолепным здешним белым хлебом, чуть подсохшим за день, но всё равно хорошим, фруктами и нашим вином из корабельных запасов. Бенедикт ужинал со мной; где носило Доминика – понятия не имею. Он, быть может, постился.
Баронов я в шатёр не позвал, отослал. Подумал, оставлять ли при своей особе Бенедикта, ещё подумал, но он сказал: «Я за вас, ваше прекрасное высочество, денно и нощно молюсь», и я почему-то тут же решил его тоже отослать. Вот не знаю почему. Велел ему устроиться где-нибудь поблизости, но не рядом, и приказал волкодаву из личной стражи найти мне Доминика.
Доминика долго разыскивали и, в конце концов, привели под конвоем; волкодав сказал, что идти он вовсе не рвался. В общем, не собирался хоть немного загладить все свои старые заскоки и выходки – но я, честно говоря, и не ждал особенно, что он раскается, а потому встретил его милостиво и сказал любезно:
– Будешь спать в моём шатре.
А Доминик усмехнулся хмуро и почти зло, дёрнул плечом и спросил:
– Боишься мертвеца?
Боже Святый, как же с ним было тяжело! Я опять еле успел удержаться, чтобы не наподдавать ему хорошенько, – лично – но вовремя сообразил, что особе королевской крови вроде бы не к лицу выходить из себя по любому поводу, и сказал снисходительно:
– Я, конечно, ничего не боюсь, просто хочу, чтобы ты помолился на ночь. Языческие земли всё-таки.
Доминик пожал плечами и сказал так равнодушно, что просто неприлично прозвучало:
– Ладно, помолюсь, – а потом вошёл в шатёр вслед за мной.
«Ладно» – не угодно ли?! Это он так согласился. Будто его, голодранца, каждый день приглашал помолиться наследный принц! Всего имущества, что балахон с верёвкой вместо пояса, стоптанные башмаки, затрёпанное Писание и медное Око со стекляшкой какой-то вместо зрачка – а вид такой, будто Иерарх его рукоположил в наставники и дал приход размером с графство!
– Ты специально ломаешься? – спрашиваю. – Цену себе набиваешь? Так просто скажи, сколько ты стоишь – тебе заплатят. Чего хочешь? Быть моим духовником? Придворным проповедником? Земли? Денег? Можешь просто сказать? Без всех этих ужимок?
Он вздохнул и сел на ковёр в стороне, чуть не спиной ко мне. Просто отвернулся, как от хама какого-то! И сказал куда-то в сторону, глухо:
– Да ничего мне не надо, а от тебя – тем более! Я в миру – герцог Дамиан Златолесский, от своих денег и земель отказался ради служения Господу, а ты мне твои предлагаешь… Ты слишком привык покупать, принц. Даром не дают?
От таких слов уже я как-то растерялся. Прямо не знал, что ему ответить. Было зверски неприятно, даже в жар кинуло – но всё равно я не придумал, как его осадить, а сделал вид, что к его выпаду не прислушивался и вообще собираюсь ложиться. Тогда Доминик зажёг свечу и стал читать «Мир и покой даруй в час закатный».
Темнело быстро, но от свечи было очень уютно. И спать, откровенно говоря, сильно хотелось. Глаза сами собой закрывались – я же накануне почти не спал толком, да ещё и Доминик отчитывал вечерние молитвы вполголоса, монотонно. Убаюкал. Но только я начал дремать, как сквозь полусон почувствовал жуткую вонищу тухлятины.
Открываю глаза – здравствуйте! Давно не виделись!
– Смерть и ад! – говорю, уже раздражённо, конечно. – Доминик, это что, вообще, такое?!
И Доминик отозвался из угла, прервав молитву, так же равнодушно, просто-таки абсолютно безразлично:
– Ты что, сам не видишь? Мертвец. Жерар. И я тебя предупреждал.
Я сел. Сон как рукой сняло. Жерар стоял рядом с моей походной постелью.
Выглядел не очень. Ну совсем не очень. Жарко было – и он уже начал гнить, позеленел, глаза вытекли, кое-где кожа лопнула и что-то под ней копошилось. Вид – с души воротит. Но он смотрел на меня своими пустыми склизкими дырами и дёргал губами, будто хочет что-то сказать – а сказать уже, кажется, не мог. Я опустил глаза, чтобы не смотреть ему в рожу – и увидел ноги. Ещё хуже.
Эти уроды закопали его босым. И босые ступни были все в пыли, потрескались, и из трещин текло что-то отвратительное – то ли гной, то ли сукровица. Я вдруг догадался, что он весь этот день, невидимый, тащился за нашим обозом, шёл на своих мёртвых ногах – и от этого понимания стало нестерпимо тоскливо.
Доминик подошёл поближе, присел рядом со мной и сказал Жерару, глядя ему в лицо:
– Бедный мертвец, что же мешает тебе уснуть? Тяжкие грехи? Тогда – прости тебя Господь, я их отпускаю, упокойся с миром, – и всё это так тихо и нежно, будто этот сволочной мертвец при жизни был его приятелем, а не моим. – Несчастная душа, я вижу, что твоё раскаяние искренне – и епитимья уже достаточна для тебя…
Тогда Жерар повернулся к нему, протянул руку – какие-то мелкие белые червячки копошились под ногтями – и снова задёргал губами и лицом. Я бы сейчас что угодно отдал, чтобы его не видеть – а он указывал гнилым пальцем на дверь и то ли бурчал, то ли тихонько хрюкал, распространяя совершенно нестерпимый смрад.
Доминик повернулся ко мне.
– Принц, – сказал он хмуро, – мне кажется, он пытается тебя о чём-то предупредить. Знать бы о чём!
Жерар два раза кивнул, и у него внутри что-то булькнуло, будто потроха уже сгнили в кашу. Я еле удержался, чтобы не блевануть на ковёр не хуже Альфонса, даже привкус желчи почувствовал на языке – а Доминик встал и подал трупу руку!
Представляете, дамы и господа, он взял за руку эту тухлятину! Не изменившись в лице! И сказал нежно и печально:
– Упокойся с миром, Жерар, не мучай себя. Отпусти свою душу туда, где ей быть надлежит, отправляйся к престолу Господню – пусть он рассудит, чего ты достоин. Тут ты уже ничем не поможешь и ничего не изменишь. Да будет с тобой милость Божья, вернись в свою честную могилу!
Тогда Жерар кошмарными рывками, с хлюпаньем каким-то, подтянул руку Доминика к своему рту – видит Бог, я подумал, что