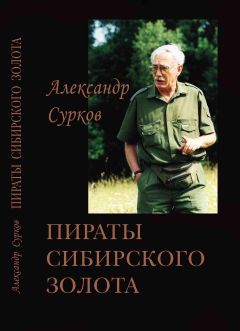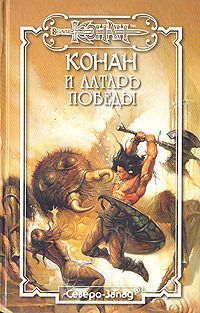— Очень может быть, — осторожно молвил Пленси.
— Даже если Черный Джок воскрес… — начал Гарчибальд, но шариф прервал его, энергично ударив кружкой по столешнице:
— Джок! Ерунда! Джок мертв с тех пор, как получил клинок в свою дурную башку! Послушайте, месьоры, если я могу вас так называть, все это чушь. Только я доподлинно знаю, кто этот волк-оборотень! Я знал его, я верил ему, как сыну, он любил мою дочь. Он обманул меня, и я отправил его на каторгу, откуда этот прохвост недавно бежал, а потом набрался наглости явиться ко мне, дабы заверить в своей невиновности, Я заключил его в яму, откуда в ночь полнолуния сей сын тьмы исчез, задрав когтями охранника. С тех пор он наводит ужас на мирных поселенцев Тандхары! Увы мне, увы, сколь близорук оказался я, избранник народа, сколь недальновиден…
— И кто же сей тать? — негромко осведомился Гарчибальд.
— Назови нам его имя, дабы мы смогли помешать злодею совершать дела черные, — вкрадчиво молвил Скурато.
— Кто этот ублюдок?! — взревел Гуго.
Шариф понурил голову, отер со лба крупный пот и молвил:
— Бежал из ямы, обратившись зверем лесным и задрав моего человека, не кто иной, как Бэда Катль, убийца Черного Джока!
Заходи, Партер, садись. — Катль? Это ты? Сынок… — Кресло возле камина, шариф. Садись.
Шариф сел.
— Ты ведь не думаешь меня убивать, Бэда? Согласись, мало чести прикончить старика, сидящего в кресле…
— А много ли чести натравить убийц на человека, который этого не заслуживает?
— Так ты все слышал?
— Догадливый. Почему ты сделал это, шариф?
Партер хотел подняться, но, завидев тускло блеснувший хассак в руке Катля, остался сидеть.
— Сначала ты обманул меня, когда я убил Черного Джока. Я убил его по праву поединка и по просьбе людей, которых он обидел. Ты схватил меня и отправил на каторгу.
— Я отправил тебя к губернатору, а уж он решил… — Губы тарифа пересохли, и он облизнул их, чувствуя, что и язык стал подобен сухой пемзе.
Катль смотрел ему в глаза с тем странным, оскорбительным презрением, благодаря которому он получил свое прозвище. Щеколда, опустившаяся на дверь за спиной тарифа, вынуждала Партера принимать этот взгляд, не суливший ничего доброго.
— Ты отправил меня на каторгу, потому что я любил твою дочь, — закончил Бэда. — Плохая партия, не так ли?
— Ну что ты…
— Плохая. Зачем тарифу Либидума зять-разбойник? Ты ведь не принял всерьез моих слов, что я хочу остепениться построить ферму, зажить с Эллис чин-чинарем и все такое…
— Сынок, ты ошибаешься!
— Тогда зачем ты сдал меня после поединка с Джоком?
— Так велят законы, сынок, ты знаешь, что губернатор запретил поединки на ножах!
— Плевал ты на губернатора! Поединки! Да в Тхандаре на дуэлях убивают людей больше, чем комаров на крупе лошади за дневной перегон!
— Но я представляю власть, сынок. Подумай сам, что будет, если боссонцы утратят последние представления о крепкой руке!
— Это твоя-то рука крепкая? Если ты так в себе уверен, зачем же объявил меня волколаком и нанял убийц? Человека своего не пожалел, горло ему железными кошками разодрал, только бы представить мое бегство как побег оборотня! Зачем? А я-то, вернувшись с рудников, пришел к тебе искать справедливости! Принес доказательства виновности Черного Джока, думая, что в прошлый раз ты ошибся! Скажи, шариф, чтобы я понял тебя своей тупой головой: ты схватил меня во второй раз, бросил в яму, потом явился с ласковыми речами, убедил, что мне сочувствуешь, а неволя моя вызвана исключительно присутствием соглядатаев губернатора Бранта, предложил бежать. Я устроил подкоп и ушел в леса, туда, где мне и место. И что же я узнаю? Ты объявляешь меня оборотнем, волколаком и натравливаешь на меня следопытов, готовых усмотреть нечистое в собственной матери, лишь бы получить награду? Зачем, шариф?
— А ты уже скоблишь щеки, — сказал Партер печально.
— Я много чего повидал в каменоломнях, — откликнулся Бэда, — Так будем разговаривать?
— Ладно, Катль, — голос старого рубаки стал жестким. — Ты волен взмахнуть рукой — и я умру. Что это даст? Тебя все равно повесят. Потом в Либидуме начнется соперничество между семьями, будет куча трупов… Сейчас же придут пикты. Женщин будут насиловать, младенцев резать. Среди женщин, между прочим, твоя Эллис. Все еще любишь ее?
Катль промолчал.
— Знаю, любишь. Это хорошо. Хорошо это, ежели бы ты бандитом не был. Моя дочь знатных кровей, тебе не чета… Чего раздумываешь, давай, мечи свой ножик!
— Безоружных не убиваю, — сказал Катль, у которого рука, честно говоря, чесалась. — Ты ведь, Партер, из благородных. Я к тебе честь по чести сватался. Не как бандит, а как добропорядочный боссонец. Мог бы отказать, и дело с концом.
— Нет, — сказал шариф, — не мог. Тебе откажешь, так и девку умыкнешь. А брат у меня в Аквилонии серьезный, виконт, и племянницу любит, мне его гнева не надобно.
— Так ты трус?
— А ты? Подумаешь, волка какого-то на него списывают… Что тот волк, тварь, в общем-то, безобидная, ну скот там режет, ну по домам пошаливает…
— И потому его убить нужно?
— Для порядку. Сам посуди, ежели тварь подобная разгуливать на свободе станет, что люди обо мне подумают?
Тут Бэда улыбнулся так, что хозяин дома вцепился в подлокотник кресла и судорожно повел плечами.
— Давай, — сказал Катль, — говори, что подумают.
— Сынок…
— Ближе к теме.
— Ну, говорят, что волк этот оборотень… волколак…
Его кое-кто видел, и фермеры готовят облаву. А может, и нет его, проклятого…
— Нет?
— Я говорю — может. Но люди-то боятся. А к кому люди идут? К тарифу. А шариф, он все знать обязан, всем помогать. Если люди говорят, что в окрестностях Либидума завелся оборотень, значит, так оно и есть, и власть должна силу свою явить… Сознаюсь, хотел и с тобой под шумок разделаться, да ты ведь беглый, одно слово — пропащий…
«Зубочистка» вонзилась в левое ухо шарифа.
«Зубочистка» — это такая штука, что вреда особого не причинит, но кричать вполне может заставить.
Партер завизжал.
— Значит, так, — сказал Катль, — я хочу поселиться на твоих землях. Вместе с твоей дочерью. А за это я убью волколака. Пойду в Волчьи Холмы, найду того, кто там прячется, и убью. Принесу его голову сюда, в твой дом волчью или человеческую — все равно, а ты своей властью снимешь с меня все обвинения. Мне надоела беспутная жизнь, шариф, хочу осесть и детей нарожать. Согласен?
Шариф обернулся на дверь кабинета, в которую снаружи колотили: видно, челядь услышала вопль своего хозяина.