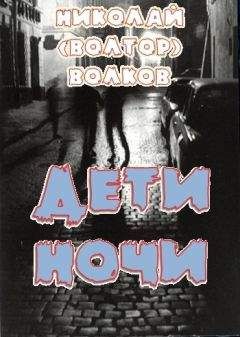нужно тебе, так сама за ним сходи!
Радомир делает шаг, но под ногой его почва вздымается, брыкается подобно непокорной лошади, вынуждая отступить. Смотрит ведун себе под ноги да злится все сильнее. Мойре и усилий прилагать не нужно, чтобы Дар свой использовать, и это давит на него, задевает раны лишь сильнее. Ему-то сколько сил прикладывать нужно для того, чтобы хоть малую толику создать, а она!..
Это уничтожает его гордость. Заставляет мучиться от малейшей мысли о том, что не столь хорош он в том единственном умении, которое у него есть. Радомир отводит взгляд, а глаза резать начинает от непрошеных слез.
Нависая над ним подобно хищной птице, Мойра хмурится, и в этот момент на лице ее можно увидеть легкие отголоски приближающейся старости. Едва заметны они, но различимы, и оттого лишь сильнее напоминает она недовольную поведением своего чада родительницу. Давно же Радомир не видел подобных взглядов; с тех самых пор, как Ясна покинула Явь, не выдержав разлуки с плененным возлюбленным. Словно бы никто из его родителей и не думал о том, каково Радомиру будет одному.
– Хорошо, – яростно цедит он сквозь крепко стиснутые зубы, – будет тебе твой камень!
Развернувшись, быстрым шагом ведун торопится убраться прочь, и нет ему больше дела ни до острых камней, ни до усталости, что сковывает его. Одним только упрямством движим он, желанием доказать, что справиться может со всем, что только ему доверят. Моргает Радомир, и с его покрасневших от соли глаз срываются слезы, пачкая собой грязные щеки. Старик Ратибор наверняка сейчас причитать бы начал, что негоже мужчине слезы лить, да только что теперь, Радомир и не человек вовсе? Не может дать волю чувствам своим, что душат его уже долгое время? Он не плакал, когда их похитили. Не плакал, когда взяли в плен на песчаном берегу. Не дал волю слезам даже тогда, когда оказался на поле боя, призванный развлекать вероломного султана и его народ. Так что же, становится слабым он только оттого, что чаша терпения его переполнилась? Хочет Радомир пнуть попавшийся под ногу камень, да только сдерживается. Не хватало потом за еще одним лезть, выполняя поручение безумной отшельницы.
Придерживая воительницу, от веса которой уже начинает тянуть плечо, Мойра внимательно смотрит в спину солнцерожденного. Дать волю чувствам ему нужно, а при чужом присутствии не станет он делать этого, гордый сокол. Улыбнувшись уголками губ, перехватив северянку поудобнее, она направляется к своему жилищу.
Дом встречает знакомым запахом тлеющего очага и сушеных трав, висящих под потолком. В его стенах, пусть и изрядно покосившихся от времени, Мойра ощущает себя в полной безопасности. Одним только взглядом она заставляет огонь весело затрещать в каменном кругу, пожирая с жадностью иссохшую древесину, и свет пламени освещает каменные своды дома. Северянка тощая. Укладывая ее на свою постель, ухватив поудобнее, ладонью Мойра чувствует каждое ребро под лоскутами одежды. Они с Радомиром давно не ели, слабы и обезвожены, но луннорожденной в теплых этих землях куда тяжелее. Ведун-то вырос под лучами палящего солнца, босиком ходить по раскаленной земле привык, а она – другая. Ей проще в снег босой ступить, в холод лютый нос из дома показать, а любое тепло медленно ее убивает.
– Потерпи, дитя, – говорит Мойра, тыльной стороной ладони убирая пряди коротких белых волос с измученного лица, – скоро ты вернешься домой.
Северянка морщится и продолжает спать беспокойным сном. Отойдя от ложа, Мойра прислоняет посох к стене и снимает со спины видавший лучшие дни волчий мех, кидая его небрежно в сторону. В бочке, полной холодной воды, она омывает руки и лицо, перехватывает волосы плотным кожаным шнуром, чтобы те не лезли в глаза и не мешались. Ее гости наверняка голодны. Похлебка из соленой рыбы будет как нельзя кстати.
Из царства сновидений ее выводит аромат еды. Желудок заходится тревожным урчанием, и Ренэйст, застонав сдавленно, открывает глаза. Все тело ломит от боли и усталости, а изголодавшееся нутро спешит вывернуться наизнанку, отвыкшее от запаха пищи. Если бы она не была так пуста, то уже поспешила бы избавиться от содержимого своего желудка.
Где они оказались? Что это за место?
Это определенно не пустыня, да и вместо закатного неба над головой у нее крыша, сложенная из разномастных кирпичей. Некоторое время Ренэйст лежит, рассматривая неровный их узор, капли затвердевшей глины, которой они скреплены между собой, и от занятия этого голова ее начинает болеть лишь сильнее. Утомленная долгим путешествием, Волчица не сразу понимает, что в месте этом странном она далеко не одна. Внимание ее привлекает тихий голос, мурлычащий что-то поблизости. В первые мгновения кажется Ренэйст, словно бы голос этот принадлежит матери, да только поет песни он вовсе не на родном языке. Ладные и плавные слова солнцерожденных складываются в мелодию, рассказывающую о том, как томится сердце в тоске по дому, и до того она печальна, что на глаза северянки наворачиваются слезы. Слушает она внимательно, не моргая, и голод, как и весь остальной мир, теряется в пелене этой печали.
Слезы скатываются по вискам и теряются в волосах.
Песня прерывается, и вместо нее Ренэйст слышит полный веселья и жизни голос:
– О! Ты очнулась!
Справа от ложа, на котором она лежит, начинается копошение, и Ренэйст устремляет туда косой взгляд. Рыжеволосая женщина, сидящая возле огня, помешивающая длинной деревянной ложкой ароматное варево в котле, поднимается на ноги и направляется в ее сторону. Ренэйст настолько слаба, что не сможет дать отпор, поэтому с вынужденным безразличием наблюдает за каждым ее шагом. Рыжие кудри падают дочери конунга на лицо, стоит женщине склониться над ней, и от них пахнет костром, горькими травами и песком. Она трогает шершавой ладонью лоб Ренэйст, ощупывает веки и шею, после чего, кивнув самой себе, в одно мгновение отскакивает от постели, оказываясь в совершенно другой части дома. Приподнимаясь на локтях, дрожа от усталости, Ренэйст открывает рот, силясь сказать хоть что-то, но из глотки ее доносится лишь жалобный хрип.
– Ничего не говори, – велит ей рыжеволосая женщина, – и без того знаю, что спросить хочешь. Вы в безопасности в моем доме, а Радомира я отправила проветриться. Уж слишком сильно запутался он в собственных мыслях. Что до тебя, – она возвращается к ложу, держа в руках чарку с водой, и все естество воительницы тянется к ней, – то пить ты хочешь сильнее, чем думать.
Крепкая рука придерживает ей голову, в то время как вторая подносит чарку к губам, и Ренэйст пьет с жадностью. Большая часть воды льется мимо ее рта, но сейчас кажется это такой мелочью, не стоящей даже внимания. Ренэйст пьет и пьет, и