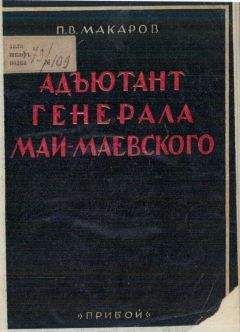Плотная завеса надежно оградила дворец от толпы, а те бунтовщики, что оказались внутри, ничего не смогли противопоставить бамбальеро.
— Сзади!
— Вижу!
«Вышибала» громыхает, и незадачливый дружинник вылетает в окно. Следующий выстрел — «тигриный коготь» прошибает дверь, за которой укрылся бунтовщик, и вгрызается ему в грудь. Вопль.
Грохот, грохот, грохот…
Это впереди.
Помпилио наконец-то взял в руки обоих «Близнецов» и прокладывает дорогу сквозь наемников и дружинников. Помпилио неудержим, он снова Хоэкунс. Он стреляет раньше, чем замечает врага. Он всё слышит и всё чует. Он несется вперед, оставляя за собой только трупы. Он убивает, но в его сердце нет места ненависти и злобе — ведь на этот раз он не опоздал. Он успел, а теперь просто уходит. Ему пытаются помешать, и поэтому он стреляет. Только поэтому. Без ненависти и злобы, потому что он не мстит и даже не убивает — он демонстрирует Высокое искусство достижения цели.
Он — Хоэкунс.
Лилиан несет маленького Георга, Длинный — Густава, Генрих бежит сам.
Вулениты прикрывают отступление, но работы у них мало: те бунтовщики, которым повезло пережить прорыв бамбадао, не высовываются, опасны только редкие кретины, которые еще не поняли, что сегодня во дворце демонстрируется Высокое искусство.
— Сюда!
Помпилио вышибает дверь, и процессия оказывается на крыше, которую ощупывают прожекторы «Амуша».
— Мы здесь! — В глубине души Лилиан понимает, что ее жест не имеет смысла, но все равно машет руками.
Ее поддерживают принцы.
— Мы здесь!
До цеппеля метров пятьдесят, но снижаться он не собирается. Дорофеев не хочет приближаться к площади, с которой изредка отвечают из винтовок, и поэтому на крышу стремительно летит «корзина грешника».
— Скорее!
— Я боюсь!
Восьмилетний Георг трясет головой, но уговаривать его некогда. Лилиан забирается внутрь, Длинный подхватывает самого маленького принца на руки и передает девушке.
— Мне страшно!!
Густав и Генрих прыгают сами, следом заскакивают Длинный с Эдди, а остальные ждут следующего рейса.
Корзина начинает подниматься.
— Справа!
— Хня мулевая!
На соседнюю крышу выскакивают несколько менсалийцев, то ли случайно забрели, то ли поняли, как беглецы собираются покинуть дворец.
Вебер прицеливается, и «Вышибала» сбивает первого менсалийца. Остальные укрываются за трубами и открывают огонь по корзине.
— Освети их! — кричит Помпилио.
Феликс еще ругает себя за несообразительность, а рука уже вставляет в камору нужный заряд. Выстрел, и над головами врагов разрывается красная «шутиха-30». Ребята на «Амуше» всё понимают правильно: один из прожекторов перебирается на соседнюю крышу, а один из «Шурхакенов» начинает вдалбливать в нее менсалийцев.
Площадь Святого Альстера пуста, остались лишь два бронетяга, но у них с цеппелем негласная договоренность о нейтралитете.
— Корзина!
— Вижу!
Помпилио запрыгивает в нее первым, за ним вскакивают Би и Хвастун, Вебер хватается за край в тот самый миг, когда корзина уже идет вверх. Вебер смеется, а в следующий миг его поддерживает Помпилио. «Амуш» набирает высоту, скрываясь от выстрелов и ненавидящих взглядов в предрассветных облаках, а из «корзины грешника» звучит веселый смех.
Бамбальеро прощаются с Альбургом.
Глава 9,
в которой всё заканчивается
«Всё лучше и лучше! Второй день на цеппеле, а я уже попал на войну. На самую настоящую войну, чтоб ее диоксидами попутало!
Пообщавшись с командой, я отчего-то решил, что оказался среди изрядных раздолбаев, людей работящих, но мирных. Но как же всё изменилось, стоило Баззе свистнуть боевую тревогу. Совсем другие люди, чтоб их в алкагест окунуло! Мирные? Ну, да — мирные, пока их не трогают.
Меня определили в противопожарную команду и послали в машинное отделение, сидеть у стеночки в компании одного технаря и одного палубного, и еще велели не путаться у Бедокура под ногами… Ах да, когда я бежал на свое место, увидел Бабарского за „Шурхакеном“ — он из него стрелял! По людям! По людям стрелял, не позволяя толпе приблизиться ко дворцу. Потом я спросил: почему? А он плечами пожал: „Мое место в боевом расписании“. Команда на „Амуше“ небольшая, и в случае опасности суперкарго должен быть при деле. А кок сидел за другим пулеметом…
А еще мне сказали, что придется научиться обращаться с „Шурхакеном“, чтобы при необходимости заменить раненого стрелка. Ну, я-то ладно, а вот тебе, Энди, будет не по себе…»
Из дневника Оливера А. Мерсы alh. d.
Вулениты разместились в одном из кубриков. Цепарям, конечно, пришлось потесниться, но никто не жаловался, понимали, что ребята свои, а значит, нужно потерпеть. Вещи, включая честно заработанное золото, братья Доброй Дочери доставили на «Амуш» перед самым его отходом, и теперь они лежали в одной из кладовых Бабарского. Проверять сохранность Вебер не стал, знал, что гостей Помпилио на «Амуше» не обманут, но кладовую навестил. Оставил оружие, переоделся в чистый дорожный костюм и свежую рубашку и только после этого направился в арсенал.
— Выпьешь?
— С удовольствием. — Вебер повесил шляпу, которую снял еще до того, как вошел в комнату, усмехнулся и пояснил: — Устал.
И провел рукой по белым волосам, то ли приглаживая, то ли пытаясь отыскать привычную шляпу, без которой настоящие вулениты чувствовали себя полуголыми.
Помпилио указал на приготовленную Валентином бутылку коньяка, и наемник плеснул янтарную жидкость в два бокала. Один взял себе, другой подал адигену.
— Ваше здоровье, мессер.
Коньяк мягко проник внутрь. Не обжег, но согрел, расслабил, тихонько прошептал: «Всё закончилось» и предложил поискать кресло помягче. Предложил плюхнуться в него, закрыть глаза и уснуть часиков на двадцать.
— Хорошо…
— Как бамбини?
— Взяли бутылку бедовки и попросили не беспокоить до… — Вебер улыбнулся: — Куда мы направляемся?
— На Свемлу, потом на Каату.
— Попросили не беспокоить до Кааты. На Свемле нам делать нечего.
— Вот и хорошо, — рассмеялся Помпилио. Он тоже переоделся, сменил забрызганный кровью месвар на повседневный, серый, расшитый черным узором. Человек несведущий мог назвать одеяние скромным, однако Вебер узнал переливчатый аханский шелк — одну из самых дорогих тканей Герметикона. — Как тебе Заграта?
— Мы очень хорошо заработали, — ровно ответил Феликс.
— Я говорил, что так будет.
— Я помню, мессер. — Вебер глотнул коньяка. — Спасибо.