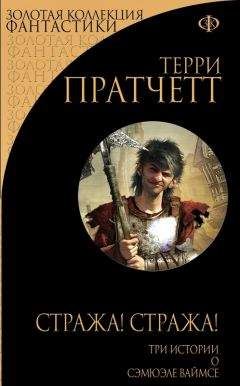– А с мечом у него как?
– Подзабыл у поганых. Видно, что знал, но в руке давно не держал. Сам учу.
– И как?
– Шипит, но терпит.
Я не вижу, но понимаю: Малыга усмехается. Старый садист! Сплю я на животе, потому как спина в синяках. Мы бьемся на мечах каждый день: я нападаю, Малыга отбивается. Стоит провалиться вперед, как Малага хлещет по спине. Плашмя, конечно, но больно!
– Что еще?
– Водил его к батюшке. Молитвы знает, но исповедаться не стал. Я же говорю: сторожится! Батюшка пытает, грамотен ли? «Да!» – отвечает. Батюшка раскрывает Псалтырь. «Читай!» – приказывает. Тот посмотрел и отвечает: «Не могу!» Батюшка укорил за лжу, а Некрас глаза прищурил и псалом ему по памяти. Весь! А после говорит: «Скажи, батюшка, какой ныне год от Рождества Христова?» Тот только охнул: мы, мол, лета от сотворения мира считаем, годы от Рождества епископ разве ведает. «Жаль! – вздыхает Некрас. – Хотелось бы знать». Батюшка изумился и говорит: «Заходи ко мне, унош! Грамоте обучу!»
– Научил?
– За седмицу! Отроков год учат, да и то не успевают, а этот взял перо и стал писать. По всему видно, что умел ранее. Таился…
Ничего я не таился! У них буквы по-другому пишут, да и больше их! Даже числа буквами обозначают. Поп показал, я запомнил – всего-навсего!
– Кто он, как мнишь?
– Княжич… Отца вороги со стола сбили, семью вырезали, чтоб наследников не осталось… Думал выведать, откуда? Велел дружинникам подпоить и расспросить. Не пьет он пива, но уговорили.
– Вызнали?
– Издалека. Из какой земли, не сказал, но поведал: долго скакать. То-то думаю: речь у него другая, слова инако выговаривает. Родные, сказал, померли, а как убили их, дядька приютил, вдвоем жили. Тати проведали, что кони у них есть, напали сполохом, дядьку дубиной забили. Некраса не было, отлучился, а как вернулся: дядька мертвый, а тати коней седлают. Взял он лопату, другого оружия не было, и засек татей, всех троих…
– Один?
– Прыткий он! Да и дядька добре учил. Один тать его в бок язвил, Некрас ушел, да недалеко. Сомлел. Тут поганые и подобрали. Я мню, княже, что инако было. Как он в землях Галицких оказался? Думаю, убегали они с дядькой от ворогов, далеко забрались, только тати настигли. Дядьку убили, а с отроком не справились. У Некраса на боку метина от ножа, сам в бане видел.
– Поганые почему приняли? Они поповских не любят.
– Вдова его нашла, Елица. Одежу спалила, крест выкинула, а своим сказала, что не поповец. Выходила, женила на себе. Оно-то зразумело: такого-то! Некрас как по городу едет, девки дуреют: сломя голову бегут глядеть. Высокий, статный, ликом пригожий. Если б только девки! Меня бояре, у которых дочки на выданье, пытали: не хочет ли унош жену взять? Приданое сулили.
– А он?
– Слышать не хочет! Боярский сын рад был бы. На женок не смотрит… Дружинники к вдове хотели свести, хватает их в Звенигороде. Оно-то блуд, княже, но с вдовами многие живут. Некрас к тому же не отрок, жену имел. Не захотел он. Сказал, что Елицу свою любит.
– Пригожая была?
– То-то и дело, что нет. Поведал, что старше его и рябая. Но добра к нему была, за то и полюбил.
– Мало он добра видел…
– А еще скажу, княже, ведает он такое, чего другие и не слыхивали. Поведал о землях дальних, о народах, что там живут, какие там обычаи, звери. Говорил, что далеко отсюда, на полдень, живет дивный зверь. Телом велик, ноги – как столбы, клыки длинные и в руку толщиной. А промеж тех клыков нос длинный до самой земли, и зверь тем носом и еду берет и человека может схватить. Зовется «слон». Наши усомнились, так Некрас выпросил у батюшки клок пергамента и зверя того нарисовал. Я показал пергамент купцам, и один поведал, что зверь такой и вправду есть. Живет далеко, за морем Хвалынским, люди этих зверей приучают и используют для работы и рати.
– Он и Ване моему рассказывал, – говорит князь. – И тоже рисовал. Не только слона. Другого зверя, который телом, как лодья перевернутая, а ноги толстые и короткие. На носу того зверя рог растет, потому зовется «носорог». Живет в далеких землях за морем Греческим. А другой зверь телом как лось, но сам в пятнах, а шея длинная, как столб. Питается зверь листьями с древ, за тем ему и шея такая. Зовется «жирафа»… Ваня мой к Некрасу прямо присох, велит в ложницу к себе класть.
– Бог послал нам его, княже! Не случись Некрас, не было б у тебя сына!
– Я как услыхал, что Некрас тоже Иван в крещении… Знак это, Малыга, помощь от Господа. Ваня мой – последыш, единственный наследник, жена покойная с мамками забаловали. Добрый отрок, но своенравен, трудно будет ему в княжении. Боюсь за него. Ты-то совет дашь, только не послушает он – все ладит по-своему. Купаться тогда без спросу ускакал… Некрасу же он в рот глядит, слушает, как старшего брата. Это добре: Некрас худого не присоветует. Добрый унош. Телом ладный, разумом быстрый, сердцем добрый. Горя много испил, но не озлобился. К труду привычный, учится с охотой, людей не обижает. Но, главное, Ваню любит, милеет к нему, как к брату. Княжич Некрас или боярский сын, мне без разницы. Ване он по сердцу, значит, и мне…
Я отхожу от двери и крадусь к себе – дальше слушать неловко. Это все неправда: никакой я не ученый! Семь классов – и те не закончил. Кто ж знал, что они про слонов с носорогами не слыхали? Хорошо, вовремя спохватился и про китов не рассказал… Проскальзываю в ложницу.
– Это ты, Некрас?
– Я…
– Куда ходил?
– Приспичило.
– Велю, чтоб ведро поганое в ложницу ставили.
– Выносить его потом…
– Девки вынесут.
– Вонять станет: жарко. Я лучше схожу.
Иван молчит, я устраиваюсь на лавке. Окна в ложницу растворены, но все равно душно. Иван ворочается.
– Завтра поскачем купаться? – спрашивает.
– Опять за девками подглядывать? Не соромно?
– Так они не таятся! – хихикает он. – Знают, что подглядываю, но рубашки скидывают.
– Млеют оттого, что княжичу показываются?
– Не мне. Они думают: это ты подглядываешь – за кустами-то не видно. Прискакали вдвоем, а кто в кусты полез… Я слышал, как они лаялись: кого первую в ложницу потянешь? Млеют они к тебе.
– Пустое!
– Это сладко с бабами, Некрас?
– Женишься – спытаешь! – зеваю я.
– Не скоро еще. Отец сказал: не ранее шестнадцати!
– Потерпишь! Не отвалится!
Он смеется, затем вздыхает:
– Хорошо тебе так говорить! У тебя Елица была…
Даже в груди закололо от воспоминаний… Зачем он так? Подумав, успокаиваюсь. Иван добрый, просто еще маленький. И я был таким… Неужели? Трудно поверить. Я старше Ивана на два года, а кажется, что на все пять. Или десять…
– Ты спишь, Некрас?
Я не отвечаю – пусть думает, что сплю. Опять примется про девок. Мне про них не хочется. Глупые они: только и знают, что пялиться да хихикать. С Елицей было иначе.
Княжич поворочался и затих – спит. И я…
В доме, где росла Улыба, все было пропитано запахом меда: стены, стол, лавки… Даже выскребая голиком полы, Улыба ощущала сладкий, приторный аромат. Отец ее был бортником, звали его Бакула. Дом Бакулы стоял в лесу. На вековых соснах, росших вокруг, отец с братьями развешивали выдолбленные из липы колоды – борти, в бортях жили пчелы. Колоды грудой лежали во дворе; старые, подгнившие борти мужчины рубили на дрова, новые долбили долгими зимними вечерами. Пчел Улыба не боялась. Они постоянно роились в доме, но никого не жалили. Пчелы залетали, чтобы утащить частичку того, что отобрал человек. Набрав брюшко меда, они становились ленивыми и добродушными: их можно было трогать и даже осторожно гладить пальчиком по полосатой спинке. Маленькая Улыба любила так делать.
В лесу водились хищные звери, потому двор обнесли частоколом. Зимою оголодавшие волки подходили к нему и злобно выли, приводя в неистовство охранявшего дом пса. Забор защищал от хищников не всегда; как-то зимой снегу навалило до верха частокола, затем ударила оттепель, потом – мороз, образовался плотный наст. Волки, взбежав по снежной насыпи, спрыгнули во двор, разорвали в клочья и съели пса. Проникнуть в сарай, где обитали волы, корова и другая домашняя живность, они не смогли – двери сарая были сделаны из расколотых вдоль плах – и сами попали в западню: внутри двора сугробов не было: Бакула с сыновьями накануне выбросили снег за ворота.
Бортник, обнаружив на рассвете непрошеных гостей, взял лук и с порога дома хладнокровно расстрелял метавшихся по двору и жалобно скуливших разбойников. Подранков братья Улыбы добили рогатинами. Улыбе было жаль до слез убиваемых волков, она даже всплакнула. Но из выделанных волчьих шкур Бакула сшил одеяло, Улыбе под ним было тепло и уютно, впоследствии она даже радовалась, что глупые волки попались из-за жадности.
Из одиннадцати детей Бакулы выжили пятеро, среди выживших Улыба оказалась единственной дочкой. Отец ее не баловал. С трех лет Улыба пасла овец и присматривала за коровой, с пяти мать стала приучать ее к подойнику. Два раза в год вся семья занималась выгонкой меда: тягучий, масляно-желтый, он заполнял бочки по самые крышки, которые Бакула вбивал ударами пудового кулака. Бочки грузили на повозку и везли в Белгород – на торг. Себе бортник оставлял мед в сотах, их можно было долго жевать, пока не пропадала сладость, а во рту оставался безвкусный комок воска. Комки эти выплевывали в миску, затем сплавляли в печи с пустыми сотами. Получившийся воск везли в Белгород…


![Сандра Салманс - Боль в спине [Вопросы и ответы]](https://cdn.my-library.info/books/198001/198001.jpg)