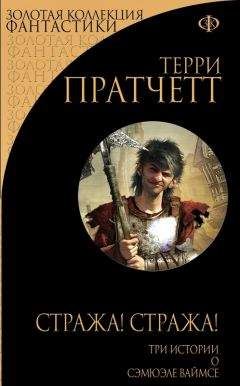Все хорошо, но Иван плох. Рана почернела, кожа вокруг нее горячая. Иван стонет и бредит. На Малыгу страшно смотреть: прямо высох. Я не отхожу от брата. Он мечется, но внезапно приходит в себя. Глажу его по горячему лбу.
– Некрас… – Голос его тих, как шепот. – Как же так? Мы ведь добра хотели. Просили нас, звали… А теперь? Веси палят, людей режут, смердов в полон ведут. Я во всем виноват, только я. Из-за властолюбия своего…
Слезы вытекают из его провалившихся глазниц, я стираю их рукой.
– Все будет ладно, брате! Не печалься! – пытаюсь утешить, но он более не слышит. Закрывает глаза и стонет. Тело выгибается и бьется в корчах.
– Отходит…
Стоящий рядом Малыга отворачивается. Я держу Ивана за плечи. Тело брата бьется в моих руках и вдруг замирает. Нижняя челюсть ползет вниз. Щеки у Ивана мокрые, но это не его слезы…
Утираюсь рушником, закрываю им лицо брата. Вот и все. Ошибся во мне покойный князь Петр: не защитил я его сына и совета разумного брату не дал. О мести Володьку думал, а не о том, чем поход в Галич кончится. Был побирушкой, им и остался. Княжества захотел… Рыбу тебе ловить, дефективный, а не править! Теперь и будешь ловить, ничего другого не остается.
Вдвоем с Малыгой выходим наружу. Сотни собрались вокруг – весть разнеслась. Смотрят на нас – будто пронзают взглядами. Снимаем шапки, Малыга крестится. По толпе как будто волна идет – повторяют.
– Князь Иван преставился! – Голос Малыги дрожит. – Помолимся, брате, за душу его! Пусть дарует ему господь прегрешения вольные и невольные и помянет в царствии своем. Добрый был князь, а не умри, стал бы лучше отца своего.
Сотни опускаются на колени. Малыга читает молитву, все повторяют. Я молчу. В груди у меня пусто и выжжено. Люди, которых я люблю, умирают. Мама, дядя Саша, Елица, теперь вот Иван… Я проклят, мне нельзя любить, да и жить незачем. Зачем князь Петр приютил меня? Я приношу только горе.
Молитва окончена, сотни встают. Малыга надевает шапку. Голос его обретает прежнюю твердость.
– Слухай, люди добрые, мой наказ! Бояре, к вам первым обращаюсь! Вы целовали крест князю, клялись служить ему верой и правдой и слово сдержали. Нет у вас перед Иваном вины, свободны вы теперь от присяги. Садитесь на коней и скачите в свои земли – там вы нужнее! Сбивайтесь в ватаги, режьте и секите киевлян, чтоб дорогу забыли к Звенигороду. В путь!
В толпе ропот: такого никто не ждал.
– Два раза повторять не буду!
Толпа бурлит и редеет. Бояре тянутся ко дворам, где стоят их лошади, скоро конский топот утихает вдали. Остались дружинники. Они сбились плотнее и подступили близко. Сотня, неполная.
– Теперь вы, братья!
По сотне – шелест. Никогда еще Малыга не обращался к ним так.
– Целовал я крест князю Петру, что сохраню его сына, но не сберег. За то мне ответ перед Богом держать, но не вам. Бились вы отважно и себя не щадили. Будь жив князь, пробрались бы мы в Звенигород и затворились бы в городе. Выслали б гонцов родичам Ивана и, дай бог, дождались бы подмоги. Господь судил по-другому. Иван умер, а наследником ему Некрас. Только нельзя с ним идти в Звенигород. Не помогут Некрасу князья, не родной он им. Возьмет Володько город приступом, воев высечет, похватает женок и детей ваших, уным своим на потеху отдаст. Нельзя такому случиться. Потому велю я вам: идите в Звенигород, проберитесь в город, а как подступит Володько, срядитесь с ним по-доброму. Он согласится. Киевляне скоро уйдут, дружинников Володька мы уполовинили, ежели не более того. Не захочет он уных своих класти, бо не совладать ему с Галичем без них. Добрым будет тот ряд. Нет на вас вины: не присягали вы Володьку, за своим князем шли…
– Што ты кажешь, батько! – кричит кто-то. – Крест Володько целовать, поганцу этому?
– Поцелуешь, губы не отвалятся! – отрезает Малыга. Лицо его холодно. – Или детей своих посеченными видеть хочешь? Женку свою под уными?
Ропот, поднявшийся в дружине, стихает.
– А ты, батько? – спрашивает дружинник. Никогда еще Малыгу не звали так, но никто не удивляется. – Ты куда?
– Я князю Петру обещал сыновей его беречь. Одного не смог, второй остался, – Малыга кладет руку мне на плечо. – Не будет Некрасу пощады от Володька, не угомонится князь, пока со свету не сживет. Уйдем мы. Попустит Господь, вернемся с войском, а нет, так не поминайте лихом! – Малыга кланяется.
– Мы с тобой, батько!
Дружина начинает кричать, махать руками, но затихает по знаку Малыги.
– Нельзя! – говорит Малыга. – Нам схорониться нужно, большим числом это тяжко. Подумайте о родных своих! Лютовать будет Володько, не пощадит ни жен ваших, ни детей, ни родителей. Не хочу грех на душу брать, мне и те, что есть, не отмолить. Кто из вас круглые сироты, у кого нет жены и кто не обещался невесте, могут идти, коли хотят!
Сквозь ряды пробираются вои. Один, два, три… Первым выбегает Брага. Его, как и меня, подобрал князь Петр. Браге шестнадцать лет, остальные такие же или чуть старше. Те, кто не успел жениться или невесту присмотреть. Добровольцев набирается одиннадцать. С Малыгой – двенадцать, как апостолов. Только я не Христос…
Церкви в деревне нет, привезенный поп отпевает Ивана. Смерды вытесали гроб, несем его на руках. Это я так попросил, дружина согласилась. Закрываю лицо брата платком, смерды приколачивают крышку и опускают гроб в яму. Забрасывают землей. Могилка обложена дерном, установлен крест. Все. За погостом прощаемся. Дружина исчезает за лесом, изгои остались. Собираемся, седлаем коней.
– Куда теперь, батько? – спрашивает Брага.
Удивительно, но воевода не сердится. Треплет нетерпеливого по плечу.
– В Курск, брате, в Курск! Добрые вои там нужны, а ты у нас самый добрый! Ведь так?
Легкие усмешки пробегают по лицам ватаги. Брага насупился, но затем растаял и улыбнулся. Он привык, что над ним подшучивают. Разум восстает против этих смешков, но внезапно понимаю: я не прав. Эти двенадцать… У них, как и у меня, никого нет. Они любили князя, теперь готовы делить изгнание со мной. Выбрали неизвестность и, возможно, скорую смерть из-за какого-то безродного побирушки. Глаза щиплет… У меня был один брат, а стало двенадцать. Вернее – одиннадцать плюс строгий отец. Мне нельзя обмануть их.
– В путь! – командует Малыга. – Рысью!..
Вспоминая события той ночи, Олята сам дивился: как успел? Не только свое унести, но и добычу не забыть. Ободрал трупы Колпаков, собрал не только оружие убитых, но и калиты с поясов срезал. Стащил сапоги – чего добру пропадать! – а за каждым голенищем – нож. Добрый, острый, с костяной рукоятью. Жаль, брони на Колпаках не было – броня дорого стоит. Зато кони…
К рассвету они прискакали в неведомую весь, и угрюмый, заросший волосами смерд, получив от Некраса ногату, отвел нежданных гостей в пустую избу. Некрас тут же ускакал, велев никуда не отлучаться и ждать. Олята, пошатываясь от усталости, перетаскал добро в избу, Оляна тем временем расседлала и спутала коней. После чего брат с сестрой, заложив дверь на крепкий засов, без сил повалились на полати.
Проснулся Олята за полдень. Оляны рядом не было. Олята вышел во двор, справил за углом малую нужду и пошел умываться. Оляна притащила от колодца бадейку холодной воды, Олята сначала попил, затем, фыркая, облился по пояс, натянул на мокрое тело рубаху и сел есть. Кушанье было небогатое: хлеб, молоко да заботливо прихваченный из Волчьего Лога копченый окорок. Зато хлеб оказался свежим, молоко – холодным, окорок пах дымком и таял во рту. Олята ел так, что за ушами трещало. Он не спросил у сестры, откуда хлеб с молоком, и без того было ясно: смерд принес.
Отобедав, Олята сел считать добро. Тут ему стало жарко. Пять сабель – одна дорогая, с каменьями на рукояти, пять засапожных ножей, пять пар сапог – ношенных, но еще крепких, пять коней во дворе… Мало того, в срезанных калитах оказалось в общей сложности три гривны серебром и шесть золотых монет: два киевских златника и еще четыре вогнутые от чекана, как миска. Олята таких никогда не видел, но сообразил: ромейские. Олята не знал, сколько за золотую монету дают серебра – на торгу золотом не платили, но понятно было, что дадут немало. Богатство! Добычей следовало поделиться с Некрасом: вдвоем воевали. Подумав, Олята решил, что Некрасу надлежит большая доля: он убил троих Колпаков, а Олята – двоих. Но даже в этом случае выходило столько, что умом подвинуться можно. Полторы гривны серебром, два коня (это не считая Дара), а ежели и сабли продать… Полвеси купить можно или одну малую. Только зачем они? Обосноваться в городе, где жить сытнее и легче, поставить в посаде дом, купить место на торгу… Оляну выдать замуж. Сестра стала гладкая, красивая, посули в приданое коня да серебра полгривны – дружинники свататься станут! Только дружинники не годятся, сгинут в сечи, что хорошего во вдовстве? А вот за сына бы купеческого…
Олята предавался сладким грезам до вечера. Пробовал поговорить о будущем с сестрой, но Оляна только глазами сверкнула. Она, как встала, на минуту не присела: все крутилась, наводя в доме порядок. Олята, хоть и не хотелось, стал помогать. Изба постепенно обретала жилой вид. По всему было видать, что здесь не обитали с зимы: по углам затвердела паутина, с крыши надуло сору, бычий пузырь в окне давно порвался. Изба была небольшой: землянка, крытая срубом в пять венцов, кровля из соломы. Ни сеней, ни клети. В веси Оляты жили богаче. Треть жилого пространства избы занимала печь-каменка, напротив – полати, между ними и печью, как раз под окном – стол да две лавки. Посуды в доме не оказалось, как и других полезных в хозяйстве вещей. «Жильцы умерли, добро родичи или соседи забрали», – догадался Олята. Хорошо, что отрок, собирая добро в занявшемся пламенем доме, бросил в мешок глиняные миски и кружки. Пришлось бы есть с досок, а молоко пить из горлача.


![Сандра Салманс - Боль в спине [Вопросы и ответы]](https://cdn.my-library.info/books/198001/198001.jpg)