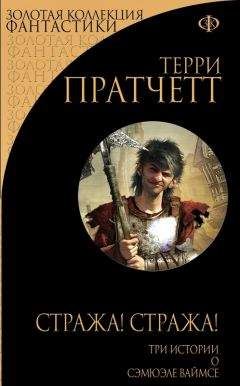– Зато ты неряха! – парирует черноглазая. – Сметье неделями не выносишь!
– Я?! – Круглолицая задыхается от возмущения. – Да у меня на подлоге снедать можно. Это ты рубаху раз в лето моешь!
– Брешешь!..
Бабы лаются, толкая друг дружку в грудь. Остальные с интересом наблюдают. Тоска… Смотрю поверх сцепившихся молодок. В стороне от обступившего меня кружка стоит женщина в линялом платочке. Понева на ней не новая, рубаха – застиранная. Постеснялась, видимо, подойти, эти заклевали бы. Женщина худенькая, но миловидная. Серые глаза под большими ресницами смотрят робко. Красивые глаза, как у Юли…
Отодвигаю спорщиц плечом, подхожу к сероглазой. Она смотрит недоверчиво.
– Как звать?
– Милицей.
– Меня – Некрасом. Вдова?
Кивает.
– На постой возьмешь?
Застенчивая улыбка…
– Да у нее двое детей! – подлетает черноглазая. – В доме шаром покати, а сама изба не сегодня-завтра завалится! Идем ко мне, кмет! Пироги спекла, юшку сварила, мед есть. У Милки и хлеба-то нету, дети сидят голодные…
– Брысь!
Черноглазая отшатывается. Беру Милицу за руку – теперь можно – и веду к торгу. Первым делом платок – обычай! Выбираю шелковый, нежно-голубой – он идет к глазам Милицы – и сразу повязываю поверх прежнего. Дома перевяжет, замужней женщине или вдове даже на минуту показаться простоволосой – позор. Обычай исполнен. Можно шагать к ней, но из головы не выходят слова черноглазой.
– Дома действительно ничего?
Краснеет и опускает глаза. Стыдно. Пришла за мужем, а накормить нечем.
Иду в обжорные ряды. Валю в мешок пироги: с убоиной, рыбой, капустой. Добавляю сверху горшок с густым коричневым медом. Крынку с молоком вручаю Милице – донесет. У меня в одной руке – мешок, в другой – кувшин с пивом: событие надо отметить. Муку, крупу, сало и яйца торговец привезет к вечеру – он знает, где Милица живет. Кажется, все. В последний миг спохватываюсь:
– Детям лет сколько?
– Богдану – пять, а Лелечке – три.
Пять для пацана – возраст в этом мире. Покупаю маленький ножик и яркую красную ленту. Ножик – в сапог, ленту – за пояс. До карманов в этом мире пока не додумались. Милица семенит впереди, прижимая крынку к груди. Минуем городские ворота. Посад, узкая кривая улочка. Неказистая избенка, покосившийся забор. Это мы поправим… Во дворе – мальчик и девочка. Пацаненок крепенький, сероглазый – в мать. У девочки глаза карие, волосы черные. Ясен пень, в отца…
Пацан держит сестренку за руку. Та не отводит взгляда от крынки, а пацан смотрит на меня – оценивает.
– Поклонитесь! – сердится мать.
Кланяются.
– Пошли есть! – предлагаю торопливо. Нам эти церемонии…
На столе из отскобленных добела досок режу пироги. Они еще теплые и пахнут одуряющее. Милица разливает по кружкам молоко. Дети набрасываются на еду. Права была черноглазая… Наливаю себе и Милице пива. Ем немного – не голоден. Она, поглядывая на меня, отщипывает понемножку. Хмурюсь. Милица испуганно хватает кусок…
Первой отваливается Леля. Еще посматривает на горшочек с медом, но сил больше нет. Следом сползает с лавки Богдан.
– Идите, погуляйте! – приказывает Милица.
Богдан берет сестренку за руку. Господи, совсем забыл!
– Леля! – протягиваю ленту.
Девочка подбегает, хватает и несет матери. Та принимается вплетать ленту в косичку. Леля крутит головкой, пытаясь разглядеть, мать шикает. Богдан хмуро смотрит. Достаю и выкладываю на стол ножик. Богдан подходит, берет. В этом мире оружие – желанный подарок. На лице Милицы тревога – ножик острый.
– Обещай! – говорю Богдану. – Что никого им не ударишь!
Он задумывается.
– А половца можно?
Киваю.
– Других не буду! – Он сует ножик за пояс. – Ты будешь с нами жить?
Взгляд суровый. Строгий пацан, старший мужчина в доме.
– Если позволишь.
Он снова думает.
– Меч подержать дашь?
– Дам.
– Живи!
Он берет за руку сестру, уходят. Милица прибирает со стола, садится напротив. Что теперь?
– Я… – Она смотрит в стол. – Зык два лета как сгинул – из Поля не вернулся. Я не хотела брать мужа, хотя сватали. Зык люб был мне. Жили, пока серебро не кончилось, потом худо стало. Корова сдохла, курей зимой поели. Оскудели совсем…
Понятно: не ждали нас здесь. Лезу в кошель и высыпаю на стол горстку серебра.
– Купи что-нибудь детям…
Встаю.
– Некрас!..
Вскочила, глаза – в пол-лица.
– Ты не уразумел! Я не про то. Не хотела мужа брать, чтоб детей не забижал. Кому надобны чужие? А ты их накормил, подарки принес… Я до сих пор не верю… В церкви тебя приметила, глядела и наглядеться не могла. Высокий, гожий, лик – как с иконы. Думала: повезет же кому-то! Мнила: дочку боярскую за себя кмет возьмет, не иначе. Глядели они на тебя, ох как глядели! А ты даже головы не повернул, а после меня выбрал… Пошто?
– Глянулась.
– Я старше тебя и детей двое. Бедная.
– Это не важно.
Смотрит, пристально. Руки теребят узел платка. Дареный мной голубенький, а затем свой сползают на плечи. Это знак. Простоволосой нельзя показываться чужим, мужу можно…
– Садись!
Опускаюсь на лавку. Она становится на колени и стаскивает с меня сапоги. Разматывает онучи. В этом мире это делают мужу, и никому более. Встает. Тонкие пальцы распускают узел на пояске, понева летит на лавку. Не знаю, что у них дальше, но мне плевать. Вскакиваю, беру ее на руки и несу на полати. Она совсем легонькая… Горячие губы, горячее тело, пот и стоны. Долгие стоны…
Лежим рядом. Ее ладонь зарылась в мои волосы, моя – скользит по ее телу. Наши щеки соприкасаются.
– Сладко-то как! – шепчет она. – Мнила: не знал ты женок. Уный совсем, борода – и та не растет. А ты вон такой! Баба учила?
– Жена.
– Ты венчаный? – Она отшатывается.
В этом мире связь вне брака считается блудом. На блуд вдовцов закрывают глаза, а вот если венчан… С Елицей нас не венчали, обряд творил жрец, по церковным понятиям я холостой. Только у язычников, как и христиан, брак один на всю жизнь.
– Вдовый я.
– Жалкенький… – Она придвигается, прижимается всем телом. – Она хворала?
– Убили.
– Кто?
– Княжьи гридни.
– Как же это так? За что? Бабу…
Она всхлипывает и склоняется ко мне. Целует лоб, глаза, губы. Соленые капли падают мне на лицо. Прижимаю ее к себе, глажу.
– Не надо! – Она отстраняется. – Потом. Дети скоро придут. Мы позже, как заснут…
Встаю, одеваюсь. Я проголодался. Милица несет пироги – их еще много, – пиво. Приходят дети и с удовольствием присоединяются. Макают ломти в горшок с медом и толкают в рот. Глаза прищурены от удовольствия. В детстве я любил сладкое, а вот сейчас не хочется. Пиво под пирог с капустой – самое то.
Торговец стучит в ворота – провизию привезли. Заношу мешки в клеть, отдаю серебро, торговец уезжает. Темнеет. Богдан с Лелей молятся перед иконой – Лелечка забавно шепелявит – и забираются на полати. Мы с Милицей сидим на лавке и ждем, пока они уснут. В сумраке глаза ее кажутся бездонными.
– Некрас! – шепчет она и кладет голову мне на плечо. – Бог тебя мне послал.
Ну, не знаю. Выбирали-то сами…
* * *
Затягиваю узлы на путилищах и окидываю седло придирчивым взглядом. Красота! Передняя лука обита серебряными бляхами, стремена золоченые. Белдюзь захотел седло, как у русских князей. Бляхи и стремена делал кузнец, остальное – моя работа. Даже арчак строгал сам, неделю потратил. Подушки набиты конским волосом, потник из лучшего войлока. Спина лошади будет в порядке, как и задница хана: она у него нежная.
Смуглый, плосколицый половец подводит ханского коня. Хороший жеребец. Он да сделанное мной седло – славная добыча, кому-то из наших повезет. Белдюзю недолго скакать… Седлаю коня, запрыгиваю в седло. Половец хмурится: вдруг пленник рванет? Ускачешь от вас! У каждого по две заводные лошади, час-другой – и переймут. К тому же братьев бросать грех: их после такого – в колодки…
Стремена мне коротки, но хану – в самый раз. Он маленький и кривоногий, зато вдвое шире: только и делает, что жрет. Пленников держит впроголодь. Мясо-то дает – скота полно, а вот хлеба не выпросишь. Половцы пшеницы не сеют, они скотоводы, хлеб дорогой. За седло хан обещал муки, стал бы я иначе стараться?
Хорошее седло! Мне широковато, но у Белдюзя зад толстый. Спрыгиваю на землю. Половец берет чембур и уводит оседланного коня. Сегодня будем с лепешками. Белдюзь – скотина еще та, но слово держит. Хорошо, что в Звенигороде я бегал к шорнику…
Пленили нас весной. Четвертый поход за два года, вроде опытные, а попались, как дети. Прошлой осенью половцы подступали к Курску, рубились с нами отчаянно, ватага потеряла двоих. Не только мы понесли потери; вдов в Курске сильно прибавилось. Братья были злы, представилась возможность поквитаться. Весенний поход в Поле – обычай. Следует напомнить ханам, что русские за обиду кусают больно, а заодно разжиться лошадьми. Они жеребятся зимой, к весне молодняк подрастает, можно сбивать в табуны и перегонять. Конь, он всем нужен. И кмету, и князю, и смерду – поле орать. Выгодно продать можно. Пошли. Выследили орду, подобрались ночью, а на рассвете помчались. Половцы сопротивляться не стали: выпустили по стреле – и наутек. Ватаге бы остаться да грабить шатры – умные так и сделали; мы же помчались вдогон. Мстить за убитых братьев, имать богатую добычу. Одно дело – жеребенок, другое – верховой конь с седлом и упряжью. Несопоставимая цена, добавь оружие убитого, серебро, если найдется в трофейном кошельке. Оружие у половцев хоть дрянное, но и оно денег стоит. Я обещал Милице новую избу: старая тесновата, да и соромно сотнику в развалюхе жить. Всеволод после похода обещал меня повысить, десятником я с первого лета. Словом, избу купил, до сотника дослужился…


![Сандра Салманс - Боль в спине [Вопросы и ответы]](https://cdn.my-library.info/books/198001/198001.jpg)