Джизелла попытался успокоить:
— В любом случае Вираг твоего ребёнка признает. А что тебе самой не будет известен настоящий отец — о том не тревожься. Для такой свадьбы старухи выбирают день, когда молодая не может зачать, это обычай. Но вдобавок дружки молодого никогда не оставляют в невесте своего следа. Их ещё мальчишками такому учат. Одно дело — развлекаться с девушками, другое — байстрюков зачинать.
И посоветовал:
— Делать тебе будет почти что нечего. Учись-ка и ты сама. Языку нашему — не с одним мужем придётся говорить. Я при тебе тоже не всегда буду — да и какой из меня толмач!
Брать слова и фразы приходилось из уст в уста — ничего «прикреплённого к бумаге» у онгров не водилось, да и Альгерда не много такого видела в своей жизни. Язык был не похож ни на что привычное, никакие сопоставления не облегчали дела. Зато вербальная мелочь, которая осталась в памяти Альки, и курьёзный — рето-романский, окский? — язык, родной для Альги, помогали уже тем, что были различны. Но истинное обучение началось, когда Ильдико решила быть немой, наподобие грудного ребёнка, и не учиться онгрскому, а принимать в себя без остатка. Словно единственно возможный способ изъясняться.
Наверное, произошло чудо — но возможно, дело было лишь во времени и покое, который оно принесло. Язык впитывался в Ильдико наподобие губки, вместе со знанием росло дитя в чреве, и рыхлыми кусками, лохмотьями, засохшей листвой опадало с неё прошлое.
«По существу, одной ночи хватило, чтобы переменить всё во мне: одеяние, природу души и саму веру», — с горечью думала юная женщина. Кто была она в прошлом — Алка или Альгерда? Непонятно.
Насчет веры она не кривила душой: те глубокомысленные стихи, что сопровождали бракосочетание, пелись у огня в его честь и у бегучей воды — во славу её самой, мелодии, которыми обвивали всё: начало работ, охоту, скудные празднества, ритуалы смерти и рождения, — были подобием священных гимнов. А теперь эти гимны глубоко внедрились в плоть иноземки вместе с языком — и делали там свою тайную работу.
Иноземки? Пришелицы? Однажды Ильдико, к своему стыду, проговорилась — и перед кем! Перед юнцом по имени Келемен, младшим из тех, кто был с ними в свадебном шатре.
«Приучаюсь к окольным речам, — подумала женщина. — Перед самой собой вру. Нет чтобы прямо сказать: из моих совместных насильников».
Как ни удивительно, Келемен не придал её словам особого значения. В том смысле, что не повторил давнюю молву о бесноватой.
— Не я один удивляюсь тебе, супруга моего клятвенного брата, — ответил он. — С первого взгляда видно было, что у тебя нездешняя душа. Но тогда из каких земель ты пришла к нам — из тех, что выше, ниже или стоят вровень с нашими?
Ильдико едва распутала длинную тираду: она и то слово употребила лишь потому, что по убогости своего лексикона не сумела подобрать нужное.
Ответила не торопясь и стараясь, чтобы её поняли:
— Мы с тобой говорили, что невеста — ещё из чужого народа, жена — уже из твоего. И только. Но давным-давно я видела во сне, будто ради меня уничтожили страну великих башен и необозримых городов, землю, где люди переполнили чашу и им стало тесно друг с другом. И бросили сюда, как в бездну, оставив мне только дремлющую память и знание языка черноволосых. Кажется, тот тесный и унылый мир был далеко впереди нашего — это мир наших эгиеди, детей и детей наших детей.
Разумеется, Ильдико сказала это по-онгрски, но имело значение то, как она поименовала детей. Обычно ребёнка называли гьёрмек, «малыш», но эгиед буквально означало «смотрящий вперёд тех, кто старше».
Келемен посмотрел ей в лицо серьёзно и с некоей боязнью:
— Если ты говоришь правду и видишь правду, а не заблуждаешься насчёт себя — у тебя должна быть великая цель.
«Ну как же, ведь не ради всякого свергаются и восстают их пепла миры, — услышала она в мозгу ироническое продолжение. — Собственно, мы такое уже проходили».
Но охоты спорить у Ильдико не было. Тот же Келемен без тени сомнения предложил обучить — если не тяжёлой сабле, то хотя бы лёгкому арбалету, который сам раньше и подогнал по женской руке. Или, на худой конец, кинжалом владеть. И ездить верхом — авось дитя изнутри не выронишь, сроду такого у наших жён не бывало. Она порадовалась, что своя, но ответила отказом. Хотя на нескольких уроках он всё-таки настоял.
Снег означает покой. Так говорил Келемен, так день ото дня повторял и Вираг. Те, кто успел осесть на землю, держат осаду в своих тёплых домах и проедают летние запасы. Кочевники отгоняют скот и лошадей кормиться в места, где трава погуще и снег помягче, а сами укрываются на крутых берегах рек и у склона холмов. Войны зимой не бывает. Те из онгров, кто спустился в Страну Гор и Долин, куда раньше подчинили себе слабых и сделали опорой. Хенну не придут.
И пожалуй, надо было осознавать себя чужачкой, не уверенной ни в ком из живущих, чтобы распознать за успокоительными словами тревогу и ложь во спасение.
Ильдико эта ложь, наверное, под конец спасла.
Снег означал мир или хотя бы перемирие. Не однажды приходилось ей благословлять своим присутствием союзы: мужчины «чернокосых» брали за себя тех, кого сделали вдовами, женщины выходили за тех, на чьи головы бросали камни и лили кипяток. «То не подлость и не предательство, — говорила себе Ильдико, — но закон неумолимой жизни, которая длится несмотря ни на что».
Всё меньше времени проводил её супруг в шатре, всё больше — в окрестностях замка. К жене перестал входить, как только уверился в том, что потяжелела, — берёг чрево. На смену ему как-то незаметно внедрялся Джизелла — подсаживался к огню, приносил забавные подарки самой Ильдико и её будущему младенцу: мастерил из сущей чепухи. С ним было спокойно и надёжно: хоть с недавних пор и раздалось её тело, но не было мужчины, который не пытался бы приласкать супругу вождя хотя бы жарким взглядом.
Когда Ильдико обучилась сносно держаться в седле и ей, наконец, разрешили выезжать верхом за пределы стен, именно Джиза выбрала она в спутники. Могла бы и кого-то ещё, только население в последние дни заметно поредело.
Нарядилась она, почти как раньше, в наполовину мужское: казакин, подбитый лисьим мехом, тёплая блуза и шаровары, поневоле широкие в поясе и на широких же лямках. Только шапка была онгрская: с четырьмя лопастями для тепла, кроющая лоб, уши и затылок. Нарядная кобылка игриво поматывала головой и хвостом, но шла аккуратной иноходью: будто чувствовала, кого несёт. Студёный ветерок отдувал в сторону тесные запахи человеческого жилья, приносил с горных отрогов иные: коры, смолы, вольного зверя.
Через ров прямо по льду был переброшен мост — не подъёмный, а плавучий, из толстых брусьев, положенных на лёд и закреплённых на берегу огромными «шпильками» из цельных стволов осины. Её спутник сразу взял влево, желая обогнуть крепость.
На стороне, обращённой к широкой выемке между горами, от водяного кольца отходило с десяток канав с подъёмными створами. И сразу под ними начинался обрыв, похожий на горный ледник, уменьшенный в размерах, но грозный. Из блестящей на январском солнце коры торчали мрачные гранитные глыбы — хребет допотопного чудища. В самом низу они торчали наподобие зубов в раззявленной пасти.
«И ведь похожее имеется на тылах всех замков, которые сторожат Долину, — подумала она. — Только что там больше трупов. Пленников. Или отпущенных».
— Впечатляет. А если придётся спускаться? — спросила она Джизеллу.
— Смотря кому. Тебе? Для супруги вождя уж точно царский путь приготовят.
— Как-то нет большого желания лезть в осиное гнездо.
— Что до прочих… Лишний народ съехал в корзинах и не торопясь, а хенну либо издерут себе задницу до костей, либо их расстреляют прямо на опускных канатах, — ответил он. — Ранней весной здесь ещё будет непролазная топь. Войску здесь не спуститься иначе как с миром.
— А летом?
— До лета ещё будет время, — неохотно ответил он. — Или не будет.
Он был прав. Ибо время — удивительная вещь: тянется, будто замороженное, — и вдруг несётся стремглав.
Однажды Джиз поднял Ильдико из мехов, в которых она спала, так рано, что почти все звёзды сияли на небе, и — тёплую, сонную, — вывел на стену рядом с воротами и мостом. Здесь уже был её муж, побратимы, офицеры. Одна она здесь была женщиной. Сзади всех, на старом донжоне, уже вилось на ветру шестиконечное боевое знамя с бунчуком из белого конского хвоста. Такие во множестве мотались перед ордой, идущей на приступ, подумала женщина.
И тут она увидела в руках мужа очередную безделку шута — узкую трубку наподобие той, дарёной, внутри которой вертелись, зажатые двойным стеклом, полупрозрачные осколки слюды и халцедона. Её передавали из рук в руки и смотрели туда, где вскоре должно было взойти солнце.
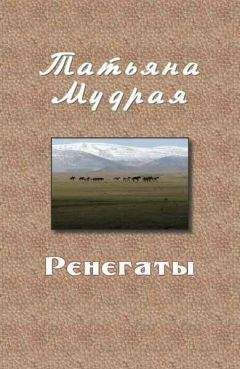


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

