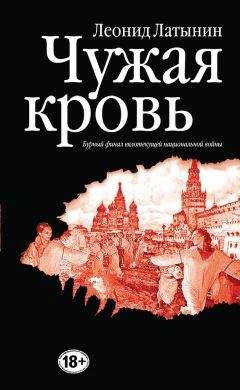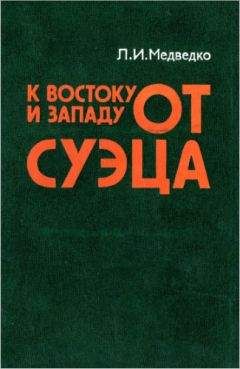Иногда в ней появлялись и исчезали круги, которые походили на радугу по цвету, но круги гасли, и опять вспыхивала тьма, но лежать было плавно и легко. Тело узнало знакомое ему, но уже почти забытое ощущение, и вдруг Лета вздрогнула, она услышала запах, хотя не услышала шагов, – зять мертвого Мала, пришлый именем Чудин, неслышно лег рядом. Каждый род пах своим запахом, своего Лета не чувствовала, но любой другой для нее был невыносим.
– Ты пахнешь чужим, – сказала Лета.
– Я бы не пришел, в дому больше нет мужчин.
Лета заплакала, уже другой слезой, любовь уходила от нее, дно затягивала тьма, корабль покрывался илом, флаг и парус таяли, как снег на ладони, как сахар в воде, как соль в мясе, как самолет в небе…
Она была чародейкой, женой Волоса, жрицей Велеса, любовь, как странница, могла заглянуть к ней в гости, заворожить мысли, поносить по волнам, взорвать, сломать, сжечь, но жить она у Леты не могла, ибо Лете некогда быть собой, и в ее судьбе она сама занимала так мало места, как птица в небе, как червь в земле, как травинка в поле, как лист в лесу, как капля в море…
Чудин был чудной, он был чудо, и чудо заключалось в том, что он иначе видел и Москву-реку, и сосну возле храма Велеса и говорил иначе, не как у них в залесье, хотя она знала, что он отсюда и остался один от своего рода, а все, кто жил в Москве, пришли сюда двенадцать отцов назад и остались здесь, и Чудины исчезли, потому что не умели сопротивляться, и всем уступали свою землю, свою реку, свою траву, свои деревья, и, по сути, это Лета – чужая Москве-реке, но не Чудин, но вышло так, что Чудин был чужой, а она была отсюда.
Запах ослаб от мысли, что она чужая, а не он, они принесли свой запах, но запах чуди остался в траве, лесу, листьях леса, и, понемногу, думая, Лета перестала ощущать разницу в запахе, Чудин пах ее медведем. Она вспомнила отчетливо этот запах, медленно перевернулась, посмотрела на него. Чудин плакал. У него были чудные голубые глаза, мягкие руки, вышитая иначе, чем у москвичей, рубаха, черные кресты на вороте, красные на подоле, черные на рукавах.
Чудин только сегодня похоронил единственную дочь Мала – Ладу, свою жену, а вчера – самого Мала. Глаза его были красны от слез и дыма, и у него в роду не было этого обычая, и он внутри был не готов и не настроен взять Лету здесь, в храме. Храм для него был местом жертвенника, молитвы. И он любил Ладу, ее хрупкое, тонкое, бедное, невесомое тело, ее печальную душу, ее песню о медленном огне, который пробивается наружу из-под земли и однажды придет к людям и каждого возьмет с собой обратно под землю.
Любил ее черные волосы, ее пальцы с синевой под ногтями, которыми она гладила его летом на берегу Москвы-реки, когда она сидела возле костра, и любил ее меняющие цвет глаза, которые смотрели туда, где кончались звезды и начинался Бог.
И он не понимал, почему ему надо сейчас стать зверем и любить ту, которую он не любит, ту, которая принадлежит живущему напротив Волосу, и стонать, и разваливаться на куски, как взорванный в воздухе самолет, когда из него вываливается все мертвое и живое.
Но он понимал, что по законам рода Мала от того, как он будет любить Лету, зависит жизнь там его жены, та вечная жизнь, в которой скоро они будут вместе. Но что скажет он ей, когда увидит Лету, и Волоса, и свою любимую…
Странно, но его в эту минуту понимала Лета и потому была бережна, нежна и терпелива с ним. И Чудин был благодарен ей за ее понимание и удивлялся в себе тому, что можно испытать похожее к той, кого он до сегодняшнего дня почти не замечал, потому что Лада была для него и Велесом, и храмом, и небом, и рекой, и лесом, и лугом, он был болен ею, может, сам не понимая, только потому, что больше, чем одну живую душу, чужую душу среди всех чужих, он не мог впустить в себя…
Но что-то в нем происходило помимо его воли и его любви, и Лета, жалея его, помогая ему, закрыв глаза, гладила его, целовала его, пока он не вздрогнул и не затих…
Чудин отыскал на поляне возле старой огромной трехлапой сосны Емелю. Сел рядом. Поправил угли в костре. Погладил по волосам своего жертвенного сына. И увидел, что Емеля не здесь, но там, где живет только сон.
Часть вторая
Бытоописание вялотекущей национальной войны
Главы о встрече Емели с теми, кто в городе Москве не только обладал правом определять процент крови, текущей в жителе Москвы, но и имел инструмент для исполнения этого права
Москва, год 2017-й…
А в это время Емелю сморило, куда-то, покачиваясь, поплыл Чудин, сидевший рядом, возле огня, небо вытянулось в огромную трубу, и капля смолы, желтевшая на стволе сосны, упала ему на ладонь.
Ладонь обожгло, он отдернул руку. На тротуаре Малой Бронной, возле Патриарших прудов, стоял человек, в руках его был скальпель. Человек провел скальпелем – показалась кровь; он прижимал к надрезанному пальцу Емели черный агатовый прибор с белой клавиатурой, набрал код, и прибор начал гудеть, становясь красным, и через несколько минут наружу вышла металлическая лента, на которой отчетливо были видны слова и цифры, идущие сверху вниз:
«… русская кровь – сорок один процент, угрская – двадцать четыре процента, вятичей – четырнадцать процентов, муромская – четыре процента, дулебская – четыре процента, чудская – четыре процента, индусская – один процент, два по четыре процента – кровь «икс».
Второй, стоявший рядом с тем, кто делал анализ, был одет, как и первый, в рубаху красного цвета с черным воротником, на боку болтались пистолеты системы Макарова.
Второй вызвал по радио центр и передал туда данные Емели.
Потом оба они вежливым, доброжелательным и в то же время понятным жестом пригласили Емелю следовать за собой. Они прошли мимо Козихинского переулка с заросшими иван-чаем развалинами углового дома и вышли ко двору дома двадцать один по Малой Бронной. Людей, кроме них, на улице не было. Остановились около красных, массивных, надежных кованых ворот. Охранник справа нажал кнопку белого звонка, вышел человек с автоматом, в длинной рубахе цвета хаки. Посмотрел на предъявленную ему Емелину пластину, покачал головой, поскреб в затылке, раздавил на щеке комара, отчего кровь оказалась и на ладони, вытер ладонь о рубаху и сказал, что в соседнем дворе находится дом, который им нужен. А у них – вместо муромы – четыре процента грузинской крови.
Так же молча процентщики в красном подошли к соседнему дому. Вход был со стороны Спиридоньевского переулка, рядом с бывшей гостиницей «Марко Поло». Позвонили в звонок. Никто не вышел; судя по всему, звонок не работал. Припадающий на левую ногу постучал в менее, чем в двадцать третьем доме, массивные, но надежные металлические глухие ворота. Звук был гулкий, как будто ударили в большой колокол. Ворота медленно приоткрылись.
Вышел заспанный человек в рубахе тоже цвета хаки с синим воротником, с ножом за поясом и пистолетом «ТТ» на боку. Взглянул внимательно, щурясь, на пластинку Емели. И впустил его внутрь. Ворота заскрипели и закрылись с трудом, но автоматика работала. Затем человек, не глядя на Емелю, еще раз внимательно просмотрел текст пластинки.
Подошел к облупленному серому автомату с желтым отверстием посредине и сунул туда Емелину пластину, как опускают письмо в ящик. Машина, два раза щелкнув, бодро зажужжала и, погудев, остановилась, вытолкнув из себя обратно Емелин паспорт.
– К сожалению, – сказал охранник, – у тебя ни с кем не совпадают проценты, – и, видя, что на лице Емели возникло недоумение, нехотя пояснил:
– У тебя вот индусской крови один процент, а дулебской четыре, а у ближайшей твоей единокровницы, наоборот, индусской четыре, а дулебской один. Кроме этого, она – католичка, а ты православный. Так что придется жить пока одному.
– Что, и все так? – поинтересовался Емеля.
– Все не все, – сказал охранник, – а обходятся.
– Как? – сказал Емеля.
– Поживешь – увидишь, – сказал охранник и, стукнув кулаком по красному автомату и подставив под появившуюся квасную струю грязный пластмассовый стакан, утолил жажду, после рукавом вытер тщательно красные, полные губы. Место Емеле было знакомо. Еще будучи Медведко, уже живя возле Черторыя, Емеля не раз спал на этом самом месте, даже куст бузины тот же цвел у стены, возле этого куста его укусила пчела, нос распух, и Медведь лечил ему нос, массируя своей чуткой и огромной лапищей самый кончик. Опухоль прошла на второй день.
– А если я выйду на улицу? – спросил Емеля.
– Валяй, – сказал охранник и с любопытством открыл ворота, почему-то сам оставаясь в тени. Пулеметная очередь подняла фонтан пыли у ног Емели, когда он оказался за воротами, рядом накрест из другого угла улицы полоснула автоматная очередь, фонтан был меньше, но сильнее. Одиночный выстрел сбил с его головы коричневую вельветовую кепку.
Охранник нажал кнопку, и так же, скрипя, ворота поползли на свое место. Остатки очереди пришлись на железо, железо загудело.