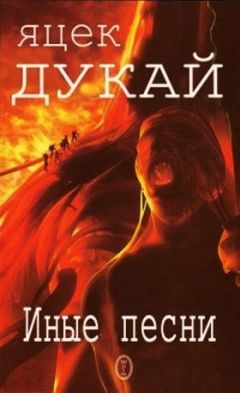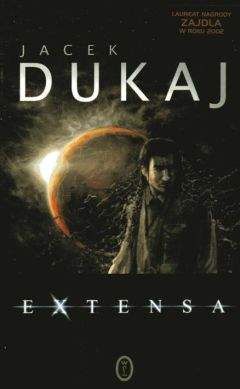— Хотелось бы ее когда-нибудь увидеть!
— Что?
— Ну, эту их страну. Пальмы, солнце, львов. Ты понимаешь — пустыни, пирамиды…
— Ага, и еще скорпионов, мантикор, ифритов, гиен, стервятников, джиннов, вшей, москитов и малярию.
Алитея показала брату язык.
В последний момент тот удержался от того, чтобы инстинктивно не состроить и ей мину. Нужно с этим покончить, ведь я уже не ребенок. Разве стратегос строит из себя на людях дурака, устраивает ссоры с сестрой? Стратегос всегда хранит гордое молчание.
Понятное дело, это тоже в чем-то было инфантильностью. Разве дети не играют в стратегосов и аресов, кратистосов и королей, не притворяются серьезными — становясь еще более смешными в этом своем подражании? Так что стыда никак нельзя было избежать: безразлично, то ли поддаться инстинкту, либо ему противостоять. Абель отвел взгляд.
Но он помнил, что, столь часто, повторяла мать. Особенно, когда сам он жаловался, как они везде опаздывают по причине ее бесконечного просиживания перед зеркалом — тогда это был ее любимый ответ, произносимый, как казалось, не задумываясь — тем не менее, правдивый в своей банальности.
— Характер рождается из отработанных навыков. Кем бы ты ни притворялся, лишь бы только последовательно, тем ты в конце и станешь. Это отличает нас от животных и низших существ, их Форма всегда рождается снаружи, сами они измениться не в состоянии. — При этом она улыбалась ему в серебристом отражении. — Не стони, потерпи. Красивых женщин всегда ждут.
Мать вырабатывала в себе навык красоты, не позволяя себе забыть об этом хотя бы на минуту. Даже если она никуда не выбиралась с официальным визитом, куда-нибудь на прием или бал, либо сама не принимала гостей — все равно, ни на шаг не отступала от заранее запланированного представления самой себя. Иногда ее красота буквально подавляла. Абель так до конца и не поборол в себе той набожной робости, с которой в детстве входил в ее покои. Спальня, гардероб, ванная, кабинет — здесь ее антос въелся глубже всего. Воздух всегда был наполнен смесью раздражающих и вызывающих головокружение запахов, густая взвесь экзотических духов и цветов, заполнивших оконные вазы. Сам свет обладал здесь иным оттенком — более мягким, тускловатым. Заглушаемые звуки немедленно умирали. Здесь не существовало ни прямых углов, ни резких краев. Все предметы либо, по сути своей, оказывались составленными из деликатных меньших элементов, либо уже распались на тысячи кусочков, во всяком случае — они уже находились в ходе этого процесса, разбитые на какие-то висюльки, покрытые кисточками и френзелями, затерянные в своих собственных орнаментах. Мать появлялась среди них в шелесте кружевных платьев, предшествуемая размытым отсветом их ярких красок и оглушительным благоуханием своих духов — черноволосая королева, кратиста его сердца. Ну что мог он сделать перед лицом такой Формы?
Абель не верил, будто ему удалось склонить мать к чему-либо. Отец ошибается — она с самого начала, видимо, уже носилась с мыслью отослать их в Воденбург. Правда, угадать ее намерения легко никогда и не удавалось, она никогда их с ним не обсуждала (или она это делала с Алитеей?), он уже привык к неожиданностям. Мать управляла их жизнями с бархатным деспотизмом. Точно так же было и в последние дни перед отъездом — и их, и матери. Вдруг в доме начали появляться кучи никогда ранее не виданных Абелем людей, в странную пору, в странных костюмах, под странной морфой — страха, гнева, ненависти, отчаяния. Он видал их сквозь приоткрытые двери, в зеркальных отражениях из-за залома коридора, как они быстро прокрадывались в комнату матери или оттуда, иногда даже без сопровождения служанки. Алитея считала, будто бы это были гонцы, будто бы мать доверяла им какие-то секретные письма. Но иногда случалось и нечто большее: как-то ему удалось подглядеть бедно одетую женщину и пожилого вавилонянина (о его происхождении Абель догадался по бороде и шести пальцам на руках), как они выходили из кабинета матери, сжимая тяжелые, продолговатые свертки. На следующий день, в гимназиуме, Абель услышал сплетню, будто бы урграф был таки убит, будто все это были интриги аристократов-чужеземцев. Когда он возвратился домой, мать уже собиралась. Алитея сидела на ступенях лестницы и грызла ногти. — Говорит, что ее арестуют. Говорит, что ей нужно бежать. Мы тоже должны. Нас отошлет. — Куда? — Подальше отсюда. — Тогда только Абель подумал про Иеронима Бербелека в неургском Воденбурге, это было словно откровение: оказия! отец-стратегос! ведь я же сын легенды! Мать выслушивала его аргументы, стоны и крики, не переставая собираться, что-то быстро набрасывая на листке и подгоняя слуг. В конце концов, она заявила, что поговорят об этом завтра. Она поцеловала его в лоб и вытолкнула за двери. А утром оказалось, что уехала ночью, забирая с собой всего лишь две сумки, и даже не в повозке, а верхом, с одной запасной лошадью. Весь багаж Абеля и Алитеи уже был погружен на речную барку. Их ждало короткое письмецо: Отправитесь в Воденбург. Отец вами займется. Дом был уже продан, деньги распределены. И они поехали.
Так действительно ли он подкинул матери идею, которая, в противном случае, ей и не пришла бы в голову? Склонил ли я к чему-нибудь ее этими своими многочасовыми воплями? Так или иначе, во всем этом не было никакой тонкости, которую Иероним приписывал начинаниям Абеля. Всего лишь детское упрямство. Он помнил, как сильно следил за тем, чтобы не выявить своих истинных мотивов — и как же свалял дурака и сделался смешным. В столкновении с ее Формой, в материнском антосе — он всегда останется ребенком, и никем другим. Так как же отец не мог этого не видеть?
Я позволю ему думать, будто сумел склонить мать к своей воле — но это неправда, неправда.
— В восемьдесят седьмом здесь вспыхнул гигантский пожар, — продолжал Антон, — весь квартал сгорел дотла, тогда, в основном, строили из дерева. В Старом Городе ничего изменить уже было нельзя, но в новых кварталах князь приказал устраивать большие расстояния между домами, определил минимальную ширину улиц, установил запрет пользования открытым огнем в бедняцких жилищах, хотя, естественно, никто этот закон не выполняет. Тогда же были какие-то стычки на фабриках, пошли слухи, будто кто-то из демиургов Огня имел здесь измаилитскую женщину, и, понимаете, той ночью дал жару, хи-хи-хи. Опять же, в восемьдесят девятом… Да не давайте вы ему никаких денег. А ну пошел, зараза!
Оказалось, привязался какой-то какоморфный нищий — третье ухо на лбу, пронзающие кожу кости, длинный хвост, из жабр течет какая-то слизь — и, запинаясь, начал вымаливать у Алитеи грошик, ну полгрошика, будьте так добры. Антон отогнал его ударами дубинки по ногам.