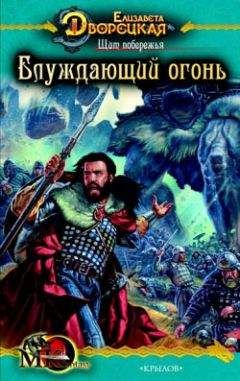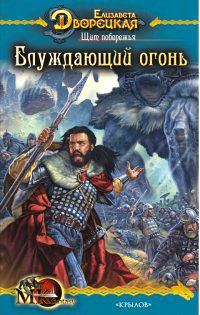Задыхаясь от бега и прижимая руку к груди, Атла ворвалась в избушку и принялась теребить Вальгарда.
– Уходим отсюда! – сдавленно выкрикивала Атла, сквозь боль в груди жадно стараясь вдохнуть. – Здесь тролли! Я сама видела одного! Нужно уходить! Здесь дурное место!
– С чего ты взяла? – лениво ответил Вальгард, даже не приподнявшись и вяло отмахиваясь от Атлы, как от назойливой мухи. Скорее всего, он разобрал лишь одно слово из десяти. – Здесь совсем неплохо.
Атла не ответила и молча села на край лавки. Проклятую брюкву она положила рядом с собой, осторожно, как гусиное яйцо. Спокойствие Вальгарда опять сбило ее с толку: в последнее время это у всякого получалось так легко! Только что она была полна ужаса и стремления поскорее бежать отсюда, но несколько слов оглушили ее и наполнили растерянностью. Может быть, все это пустое? И тролль ей померещился? А те трое на поле тоже померещились? Великий Один! Да хоть сама-то она, Атла Сова, есть на свете или она тоже морок? Только чей? Узнать бы, и уж он-то за все ответит!
Молча сидя на краю лавки, Атла пыталась нащупать свое место в пространстве. С одной стороны были люди, которые испугались ее, а с другой – тролль, которого испугалась она сама. А она очутилась посередине, на какой-то грани, узкой, как кончик иглы, и темной, как вода в проруби ночью.
– Что тебя напугало? – расспрашивал тем временем Вальгард. – Ты кого-нибудь встретила?
– Да. – Атла наконец нашла в себе силы кивнуть. – Сначала трех человек на поле. А потом тролля в лесу. Он мне подмигнул.
– Ну, не укусил ведь! – усмехнулся Вальгард. – Может, ты ему понравилась! Ты уверена, что это был тролль?
Атла опять кивнула. Вспоминая краткую встречу, она все больше укреплялась в своей догадке. И не внешность малорослого толстяка и не его поведение тому причиной, а то чувство, которое в ней осталось, – как будто она погладила ладонью изморозь на камне. Холодно, шершаво, тает и течет… Холодно, зыбко, неопределенно… Вся ее жизнь стала такой вот. А все эти проклятые фьялли!
На глаза ее снова навернулись слезы, но теперь это были злые слезы. Атла до боли сжала кулаки, страстно желая своими руками передушить все это племя, что выгнало людей из домов и отдало живых во власть нежити. Перед глазами возник, как из туманной мглы, ее угол в кухне Перекрестка, прялка с трещиной в нижней доске, за которой она просидела столько дней и вечеров. Нельзя сказать, что ей жилось весело, но она привыкла и думала, что так будет всегда. А потом – зарево пожара над лесом, лица тех, кто теперь умер, лица тех, кто не пустил их ночевать, и опять того тролля, который посмотрел на нее, как на свою…
– Надо уходить отсюда! – повторила она, слыша, что голос стал ломким и гнусавым от слез, но уже не стыдясь их и не стараясь скрыть. – Я боюсь.
– Здешние люди тоже боятся, – спокойно ответил Вальгард. – Должно быть, они и меня приняли за тролля, тогда, с лошадью. И тебя приняли за тролля. Так что нам нечего бояться. А настоящий тролль ко мне не подойдет. Он сам меня боится.
Вальгард посмотрел в угол возле двери, где сложил свое оружие. Отблеск с очага выхватил из тьмы край красного щита. В Перекрестке было принято, чтобы в гриднице щиты вешались над местами их хозяев, и потому щиты Орма (красный с желтой поперечной полосой) и Виднира (бурый с синим кругом возле умбона*) нередко летали туда-сюда, опрокидывая посуду со столов. «Луна и солнце делят место на небе!» – смеялись домочадцы. «Да уйми ты своих медведей!» – визгливо взывала к мужу фру Брюнхильд, а он только хохотал в ответ. Не зря хозяйке досталось имя валькирии… Всего этого больше нет и не будет никогда…
– Надо уходить отсюда, – повторила Атла. И сама знала, что идти некуда.
– От своего страха не убежишь, как от самого себя, – заметил Вальгард и снова улегся на охапку еловых лап, покрытых плащом. Для него это место было достаточно удобным. – Хочешь быть смелым – будь. Гони прочь страх, пусть он проваливает, а мы сами здесь останемся. Здесь совсем не плохое место. Мы видели гораздо хуже. Или ты все забыла? А идти дальше – куда? Впереди только море. Еда у нас еще есть… Ты что-то принесла?
Атла посмотрела на брюкву и скривила губы. Но усмешки не получилось. Ее раздирали два противоречивых чувства: хотелось немедленно бежать прочь отсюда, но в то же время казалось, что на всей земле ей нет места.
Этой зимой жители Хравнефьорда не испытывали недостатка в новостях. На праздничных пирах, которые с приходом йоля зашумели в каждой мало-мальски уважающей себя усадьбе, увлекательные беседы не смолкали день и ночь. Угощений тоже пока хватало, так что подданные Хельги хёвдинга могли считать себя самыми удачливыми людьми на всем Квиттинге.
Хельга чувствовала себя совсем счастливой. Чувства счастья и радости были нередкими гостями в ее душе, но сейчас она точно знала, чему радуется (по крайней мере, думала, будто знает). На йоль ожидался в гости Гудмод Горячий со всеми домочадцами, и она с нетерпением ждала новой встречи с Брендольвом. Они с ним и раньше дружили, Хельга привыкла к нему, как к брату, и скучала, когда он уехал. Повзрослевший и изменившийся, он после возвращения вызвал у нее не меньше любопытства, чем радости. От них уехал семнадцатилетний подросток, в котором она видела товарища по играм, а вернулся взрослый мужчина с бородой! Брендольв раздался в плечах, и голос у него стал ниже, гуще. Только когда он смеялся, в нем прорывалась прежняя искренняя звонкость, и Хельга узнавала прежнего Брендольва, но не упускала из виду и нового – короче, их стало как бы два! Все это было так занятно и восхитительно, что Хельге хотелось смеяться, и она смеялась, и домочадцы улыбались ей, не зная о причине веселья. При мысли о Брендольве Хельга чувствовала, что ей преподнесен изумительный подарок, что в ее жизни появилось что-то свежее, что-то такое, что все изменит. Она выросла, окруженная любовью домочадцев и соседей, но сейчас появился человек, способный и готовый любить ее как-то по-иному, чья любовь могла дать ее жизни какие-то иные, новые дороги. Тонким женским чувством Хельга угадывала, что их детская дружба с Брендольвом может развиться во что-то большее, и это наполняло сердце глубокой, искрящейся, многогранной радостью.
Но если он так изменился, то и для нее самой тоже прошли четыре года! Как проснувшись, Хельга и в себе самой заметила перемены. Раньше у нее не было будущего, потому что она о нем не задумывалась; один день переходил в другой такой же, и Хельга не ждала перемен. А теперь она их ждала, и тихий, глупый и такой сладкий восторг неприметно кипел в ней, как крошечный родничок под камнем.
Чтобы время бежало побыстрее, Хельга с раннего утра принимала деятельное участие в подготовке к пиру; ей хотелось делать десять дел разом, но не хватало терпения довести до конца хотя бы одно. То она гремела котлами среди служанок на кухне, то волокла из сундуков дорогие ковры, которыми покрывали стены в дни самых больших праздников; развернув ковер, она принималась с увлечением рассматривать вытканные на нем подвиги Сигурда или повесть о создании мира, позабыв, что ковер-то надо вешать на стену. Приезжали гости, и Хельга бежала встречать; она обожала гостей, и чем больше народу собиралось в усадьбе, тем веселее ей было. Она всех расспрашивала о новостях, задавала вопросы и тут же забывала ответы, но никто на нее не обижался, потому что она так искренне радовалась людям, что даже бедные бонды чувствовали себя уважаемыми и желанными гостями. Маленькая и хрупкая, она ухитрялась заполнить собой, своим голосом и смехом всю огромную усадьбу.