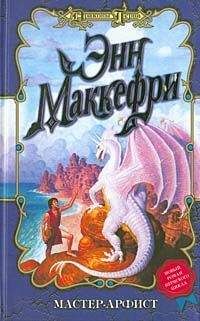— Если ты вдруг надумаешь завернуть в Тиллек-холд… брат… знай: для тебя здесь всегда будет готова комната, — церемонно произнес лорд и пожал Робинтону руку. — Думаю, мастер Дженелл захочет, чтобы ты привел обратно своего руатанского скакуна. — Мелонгель едва заметно улыбнулся. — Молодому Грожу тоже пора возвращаться домой. Так что вы можете ехать вместе. Из Грожа в свое время получится хороший лорд-холдер.
— И он тоже будет остерегаться Фэкса.
Мелонгель приподнял брови и взглянул в глаза Робинтону.
— Да, будет. И это хорошо.
* * *
Робинтон подождал два дня, чтобы дать скакуну отдохнуть и отъесться, а на третий они вместе с Грожем рано утром отправились в путь. Они возвращались той же дорогой, по которой когда-то ехали в Тиллек. Они даже завернули к Сачо и Тортоле и погостили там пару дней. Робинтон прихватил чашу Садай с собой, и ему представилась возможность рассказать женщине, как он дорожит ее подарком.
Стена уже стояла, и на многих участках кладка была правильной, цельной. Значит, хотя бы эти два холдера покончили со своими разногласиями. Робинтону немного полегчало на душе.
И действительно, Робинтон ощутил огромное облегчение, вновь оказавшись в Доме арфистов, среди преисполненных надежд юных подмастерьев. Робинтон с головой ушел в подготовку к экзамену на звание мастера; Дженелл предложил ему до конца лета сосредоточиться именно на этом.
Но когда Робинтон услышал доносящиеся из окна репетиционного зала звуки своей «Сонаты для Зеленоглазой», он был потрясен до глубины души.
Да как они посмели?! Откуда они вообще взяли ноты? Робинтон хранил у себя копию, но он никогда… Тут он вспомнил, что сделал еще одну копию для матери — когда Мерелан приезжала к нему на свадьбу. Но ведь не могла же она…
Робинтон выскочил из комнаты и сбежал по лестнице, стараясь грохотом сапог заглушить музыку, которую он с такой любовью создавал для Касии. Он распахнул дверь залами гневно оглядел присутствующих — музыкантов, мать, Петирона.
— Как вы смеете это играть?!
Он шагнул к матери с таким видом, словно готов был схватить арфу у нее с колен и разбить в щепки.
— Нет, это как ты смеешь? — возмутился Петирон, и без того уже взбешенный тем, что им помешали репетировать.
— Это моя музыка! Никто не будет ее играть без моего разрешения!
— Роби… — начала было Мерелан, поднимаясь на ноги и собираясь шагнуть навстречу сыну. Но Робинтон отпрянул и вскинул руки, словно защищаясь и от прикосновения, и от написанных на лице Мерелан сострадания и жалости. В это мгновение он почти ненавидел мать. Как она могла допустить, чтобы Петирон увидел его музыку, его сонату, которую он написал для одной лишь Касии — и ни для кого больше?
— Робинтон, я тоже любила Касию. Я играю это для нее. Каждый раз, когда звучит эта соната, люди вспоминают Касию. Она живет в этой прекрасной музыке. Пока будут помнить твою сонату, будут помнить и ее. Ты не можешь отказать ей в этом! Это ведь нужно и тебе самому…
Робинтон смотрел на мать и чувствовал, как гнев его угасает под ее твердым взглядом. Остальные музыканты сидели так тихо, что Робинтон почти не замечал их присутствия.
Потом Петирон кашлянул.
— Эта соната — лучшее из всего, что ты когда-либо писал, — сказал он, и в голосе его не было ни следа покровительственности.
Робинтон медленно повернулся и взглянул на мастера композиции.
— Да, — сказал он и, развернувшись, вышел.
Вернувшись к себе в комнату, Робинтон заткнул уши, чтобы не слышать музыку. Но, хоть и слабые, звуки приникали в уши, и к концу репетиции — точнее, это было уже прослушивание, если судить по уровню исполнения, — Робинтон вынул затычки. Он прослушал рондо, а затем финал, и по лицу его потекли слезы.
Да, это было лучшее из его произведений. И сейчас, слушая сонату, он обнаружил вдруг, что способен думать о Касии без того ужасающего чувства потери, которое преследовало его с момента смерти супруги. Последние аккорды стихли. Робинтон вздохнул и вернулся к своим занятиям.
На представление он не пошел. Вместо этого он оседлал своего руатанского скакуна и надолго уехал из холда. Он даже заночевал под открытым небом. Но сны его были полны воспоминаниями о Касии, и Робинтон проснулся в поту и лежал до рассвета, вспоминая, как она смеялась, как щурила глаза, как мелодично напевала, как покачивала бедрами, соблазняя его…
Настала зима, и земли вокруг Форт-холда покрылись снегом. В один из дней Робинтона вызвал к себе мастер Дженелл.
— А, Роб! — приветствовал он подмастерья, едва лишь тот шагнул через порог. Он отцовским жестом обнял Робинтона за плечи и провел в свой кабинет. — У нас тут стряслось чрезвычайное происшествие. Помнишь Каренхока? Тощий такой, смуглый подмастерье. Он еще учился в одной группе с Шонегаром.
— Да, помню.
— Он сломал себе ногу, и очень неудачно. И теперь не сможет завершить свой маршрут. Ты бы не согласился подменить его в Южном Болле? До тех пор, пока он не сможет снова путешествовать?
Робинтон охотно согласился и быстро собрал вещи. К вечеру он уже был готов выехать. Задержался он ровно настолько, чтобы сообщить матери, куда он отправляется и почему. Мерелан ободрила сына, провела до дверей и ласково погладила по щеке.
— Знаешь, Роб, — твоя соната имела просто потрясающий успех… — мягко сказала она.
Робинтон кивнул, поцеловал матери руку и уехал.
* * *
Каренхок не успел объехать группу прибрежных холдов на восточном побережье Южного Болла. Когда Робинтон добрался до тех краев, там было жарко и влажно. Владелец морского холда встретил его с радостью.
— Знаете, подмастерье, мы очень беспокоимся о вашем товарище. Каренхока все очень любят, и за ним хорошо ухаживают.
— Вы очень добры, холдер Матсен. Мастер Дженелл просил меня передать, что он чрезвычайно вам признателен за заботу о Каренхоке.
— У нас хорошая целительница — местная уроженка, но училась она в цехе, все честь по чести. Она тоже присматривает за Каренхоком, но у нее много дел.
Холдер был человеком приземистым и коренастым, но тонконогим, и непонятно было, как его ноги выдерживают вес тела. Однако же, когда Матсен повел Робинтона к хижине, стоящей чуть в стороне от небольшой гавани, выяснилось, что движется он проворно. У входа в хижину стояло длинное кресло, сооруженное из обычного мягкого кресла и прикрепленного к нему табурета. Деревянная решетка, заплетенная виноградом, защищала кресло от утреннего солнца.
— Эй, Каренхок! Принимай гостя! — крикнул Матсен, когда они подошли.